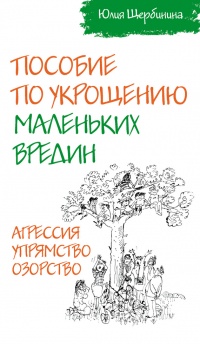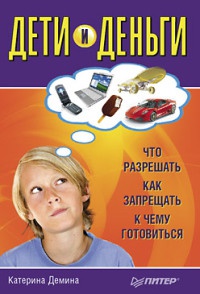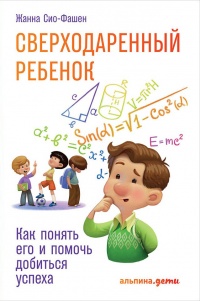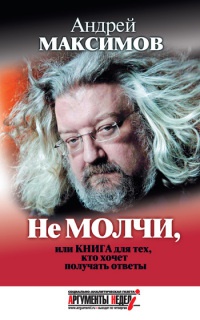Переход от младенческого возраста к раннему знаменуется кризисом первого года жизни. Неожиданно появляется непослушание, капризы, иногда возвращение к более детским, примитивным реакциям. Почему? Малыш демонстрирует негативизм из-за действительного или мнимого взаимонепонимания с близким взрослым в той мере, в какой он это непонимание переживает.
Конечно, годовалый ребенок не осознает причин своего беспокойного поведения. Однако ему недостаточно эмоционально непосредственного общения с близким человеком. Теперь требуется, чтобы взрослый его понимал, но путей для достижения понимания мало. «А речь?» – скажет читатель. Да, это основное средство установления контактов, но вспомним, какова она, когда малышу только год. Одним и тем же односложным «прасловом» ребенок называет и лампу, когда она загорается, и солнечный луч на стене, и музыку, и многое другое. Поэтому, когда он требовательно и капризно повторяет свое эмоционально выразительное, но непонятное заклинание, а мать не может сразу угадать, чего же он хочет, негодование оказывается вполне уместной реакцией. Ребенок просит, повторяет, настаивает, обижается, злится, а взрослому остается лишь перебирать варианты и уповать на собственную интуицию.
Как малыш выходит из кризиса первого года, замедляется или ускоряется темп его развития, превалируют ли приобретения, новые навыки и умения или закрепляются негативные, нежелательные формы поведения, – все это зависит от родителей, определяется тем, насколько они сумеют понять причины первых реакций протеста, как перестроят свое отношение к ребенку. Еще недавно младенец нуждался лишь в улыбках, приветливых интонациях, ласковых прикосновениях, и вдруг – подумайте, какой скачок в развитии! – он уже жаждет быть понятым, ищет отклика, не хочет довольствоваться прежним уровнем общения.
Раннее детство завершается кризисом двух-трех лет. В чем он выражается? Прежде спокойный и послушный ребенок, который с удовольствием слушал сказки, пытался заслужить поощрение родителей, вдруг становится непонятным и упрямым. Он отказывается даже от того, что ему всегда нравилось. Похоже, что теперь главное – проявить непослушание, пусть даже в ущерб собственным интересам.
Например, Богдан всегда с удовольствием ходил в гости, а в воскресенье утром, услышав, что родители собираются проведать бабушку, забастовал. С ним решили не спорить, уступили, но малыш почему-то не успокоился, а расплакался. Ведь к бабушке-то на самом деле хотелось! В другой раз попробовали настоять на своем – тоже расплакался, повторяя: «Не хочу, не пойду, идите без меня!»
Негативизм трехлетки сложнее переживаний годовалого ребенка. Во время кризиса одного года взрослый просто не умел догадаться, понять, чего малыш хочет. Трехлетний уже ожидает от членов семьи не только понимания, но и признания независимости, самостоятельности, хочет, чтобы его мнения спросили, с ним посоветовались. Поведение определяется не только отношением к взрослому, но и к себе. Протест против попыток родителей навязывать свою волю проявляется в поведении вопреки маме, даже если одновременно приходится поступаться своими желаниями.
В семье, где взрослые сумеют изменить курс, примут требования детской самостоятельности, ребенок выйдет из кризиса обогащенным – он будет по-новому сравнивать себя с другими людьми, испытает удовлетворение от нового головокружительного чувства – «Я сам!». Если реакции взрослых сосредоточатся на том, чтобы «сломать» детское упрямство, силовыми приемами прекратить капризы раз и навсегда, у ребенка возникнут приемы психологической защиты. Малыш научится скрывать свои чувства, сумеет как бы притуплять переживания по поводу отрицательных оценок старших, перестанет «слышать» замечания и укоры. Вместо открытости миру, смелости в его освоении начнет нарастать панцирь, защитная оболочка, неизбежно проявляющаяся в невротических симптомах.
Школьное детство начинается с критического периода, который называют кризисом шести-семи лет. Родители обращают внимание на утрату привычной для дошкольника простоты и непосредственности. Пятилетняя дочь если радовалась, то забыв обо всем на свете, если обижалась, то тоже без оглядки. К семи годам она как будто открыла для себя собственные эмоции. Теперь, когда сердится, одновременно изучает себя, иногда даже в зеркало пытается в это время заглянуть, в голос вслушивается. Даже не верится, что она по-настоящему переживает, потому что в поведении появляется какая-то натянутость, фальшь. Не об этом ли пишет Марина Цветаева: «Так дети, вплакиваясь в плач, вшептываются в шепот»?