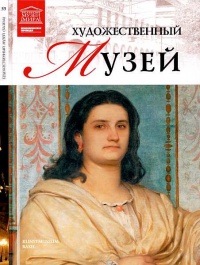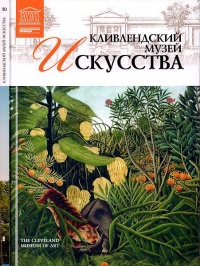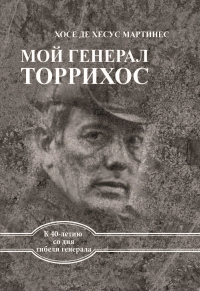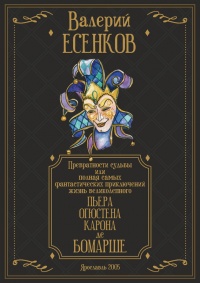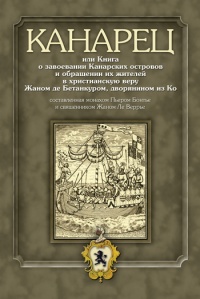Бог — это газообразное позвоночное.
Эрнст Хекель В сочинении XII в. «Сефер хасидим» говорилось: представьте себе двух сыновей, «один из них с отвращением отказывается одалживать свои книги, а второй делает это охотно. Так вот, отец должен безо всяких колебаний завещать всю свою библиотеку второму, даже если он младше».
Как мы видели на примере Каира — и это так же верно и для Багдада, и для Кордовы, — в арабском средневековом мире еврейские библиотеки были необыкновенно богатыми. Настолько, что они редко стремились к всеохватности. Состоятельный читатель собирал только книги Маймонида, Галена, Аверроэса, Птолемея Клавдия, Авиценны, Аристотеля или Гиппократа и ставил их на полку рядом с Библией или Талмудом, а иногда даже и рядом с легкой и фантастической литературой. На севере Европы, напротив, стеллажи отягощали гораздо меньше. Но от этого те лишь привлекали больше внимания. И в то же время враждебности.
Библиотеки евреев и особенно Талмуд, из одного которого они зачастую состояли, «из-за богохульных инсинуаций о Спасителе и Пречистой Деве», там, по словам некоторых, содержавшихся, были объектом постоянной и почти фанатичной травли. Хотя сирийский царь Антиох и подал пример гораздо раньше, именно крещеный еврей по имени Николас Донин в 1239 г. насторожил папу Григория IX против еретических сочинений, которые читали его бывшие братья по вере. В июне папа разослал монахам и прелатам Франции, Англии, Испании и Португалии секретный циркуляр, в котором приказывал им в шаббат ближайшего поста, воспользовавшись тем, что все евреи будут в синагогах, собрать все их книги и передать их на рассмотрение нищенствующим братьям. Процедура обещала быть долгой и скучной, к ней принудили себя только французы, и случилось это 3 марта 1240 г. Раввины осмелились предстать перед «disputatio», комиссией, возглавляемой королевой-матерью Бьянкой Кастильской, и горячо оспорить неправильную интерпретацию их текстов. Они полностью проиграли. Папа, только притворившись, будто все прочитал, 15 мая 1248 г. запретил иудаистскую литературу и ее мерзости. Но французы даже не потрудились подождать: сожжение четырнадцати повозок книг уже устроили на городской площади Парижа в 1242 г., и вслед за этим в другой день, возможно, в 1244 г. сожгли еще десять повозок. А в 1250-е гг., поскольку папскую волю все-таки надо было соблюсти, сожгли еще. В 1263 г. Климент IV под угрозой отлучения от церкви предписал королю Арагона и его сеньорам приказать всем евреям принести их книги на проверку. А в 1299 г. Филипп Красивый велел судьям помочь инквизиторам в их святом труде: так в Париже в 1309 г. сожгли еще три воза книг. Не осталась в долгу и провинция: так, десять лет спустя по приказу Бернара Ги по улицам Тулузы, простой народ которой был всегда готов к небольшому карнавалу, несколько дней возили два воза конфискованных книг, прежде чем препроводить их на костер.
Так это стало у пап своего рода обычаем: Иоанн XXII в 1320 г., Александр V в 1409 г., Юлий III в 1553 г. и многие другие отдавали множество распоряжений тщательно отсеять относящиеся к еврейству книги с целью их истребления. Эти книги словно образовали воображаемую библиотеку, расположившуюся на стеллажах времени с упорством, превосходящим постоянные стремления их уничтожить. В Кремоне в 1569 г. их найдут и сожгут еще двенадцать тысяч. Настолько, что, как пишет один автор, было еще более удивительно, что «Таламуз» пережил такое усердие.
Сюда относится история о заключении Рейхлина.
Около 1508 г. еврей-мясник, которого кельнские доминиканцы только что крестили и предложили в награду синекуру, также с гордостью выступил против мерзостей, наполняющих священные тексты его прежней религии. Хотя он не умел читать ни на иврите, ни на латыни, жалобы этого человека по имени Пфефферкорн дошли до императора Максимилиана, который решил официально поставить вопрос: должны ли все книги избранного народа на законных основаниях конфисковываться с целью уничтожения огнем? И он запросил заключения двух экспертов. Один был великий инквизитор Кёльна, выводы которого были словно заготовлены заранее, а второй — профессор права Иоганн Рейхлин. Этот гуманист, друг Эразма и добрый христианин, в 1506 г. написал грамматику иврита. Рейхлин, как и Марсилио Фичино и Пико делла Мирандола, с которыми он тоже общался, комментировал Каббалу, в которой, как он считал, заключается основа истинной христианской веры. Он не то чтобы особенно любил евреев, но благоговел перед книгами. И перед логикой. Его юридически выдержанный ответ — современный и ясный текст, недавно переведенный с латыни одним американским исследователем и опубликованный миссионерами ордена св. Павла, — можно также прочесть и с точки зрения метафизической. Этот текст под названием «Указание о том, следует ли конфисковать, уничтожать и сжигать все еврейские книги» (1510 г.) стал вехой в истории толерантности.