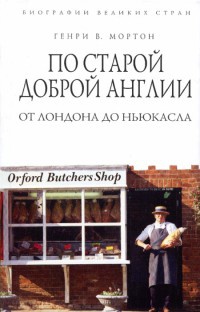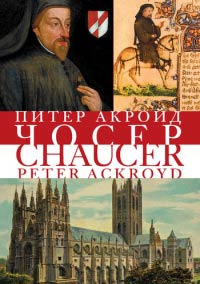Глава 77
Судьба, а не расчет
В книге Ч. Б. Пердома «Как нам отстроить Лондон?» послевоенный город охарактеризован так: «Приходишь в полное уныние от этой всеобщей серости, однообразия, запущенности и нищеты». «Серость» («блеклость», «бесцветность»), о которой часто говорится в воспоминаниях о Лондоне 1950-х годов, была обусловлена бедностью: в первые годы после Второй мировой войны большинство товаров первой необходимости распределялось по карточкам. Но с другой стороны, это была сумеречная серость неопределенности. Если одним естественным ответом на военную разруху было желание создать «новый мир», к чему стремились городские планировщики, то другим была попытка восстановить старое, как будто ничего особенного не случилось. Говоря в той части книги «Лондон: история общества», что посвящена 1950-м годам, о «веселых посиделках в пабах» и о «довольных жизнью обитателях пригородов», Рой Портер ведет речь именно об этой атавистической склонности Лондона продолжать делать все то, что он делал до бомбежек. Попытка эта не имела, да и не могла иметь успеха. Стремление наложить на новые обстоятельства систему привычных условий вело лишь к созданию неясно-гнетущей, сковывающей атмосферы.
Двумя крупнейшими лондонскими спектаклями, выдержанными в традиционном духе, стали Фестиваль Британии 1951 года и коронация Елизаветы II в 1953-м. Связанное с ними представление о Лондоне как о преуспевающем, полном энтузиазма сообществе, чудесным образом воссоздавшемся после войны, неявно подкреплялось воскрешением традиционных ценностей и былых форм времяпрепровождения. Пышно цвели детские и подростковые организации — такие, как скауты и «волчата»; то было великое время для «клубов мальчиков» восточного и южного Лондона. Посещаемость футбольных матчей выросла до довоенного уровня; кинотеатры тоже были полны — возможно, потому, вспоминал один лондонец, что «больше практически нечего было делать». Чувство некоторой несвободы, похожее на похмелье после экстаза войны, усиливалось из-за молчаливого, но согласованного стремления ужесточить нормы сексуального и социального поведения, которые за военные годы стали намного либеральней. Относительная сексуальная свобода женщин и товарищеский эгалитаризм вынужденной межклассовой близости должны были остаться в недавнем прошлом. И это, в свой черед, вело к нарастанию смутного недовольства, особенно в молодом поколении. Порядки 1930-х годов насаждались заново в совершенно изменившемся обществе. Проявлением общей атмосферы скованности и принуждения стало введение двухлетней воинской повинности — так называемой «национальной службы». Это была обратная сторона создававшегося «государства всеобщего благосостояния».
Итак, Лондон был в ту пору непригляден. По сравнению с другими крупнейшими городами — Римом, Парижем, Нью-Йорком — он казался уродливым и запущенным; впервые в истории британской столицы ее можно было устыдиться. Однако уже тогда начали ощущаться ветерки перемен, повеявшие из неожиданного источника, «Тедди-бойз» — молодые «пижоны» Элефант-энд-Касла и других южных районов Лондона, — как и стильные юнцы Челси и битники Сохо, навлекли на себя, едва возникнув, негодование моралистов. Представляется существенным, что эти разнообразные группы были тесно связаны с определенными частями города, словно на них, помимо прочего, работали силы местной истории. Все они стремились вырваться из унылого однообразия городской жизни, по-прежнему основанной на устаревших системах верований и классовых градаций. Мертвые зоны Уолуорта и Актона, Излингтона и Стоук-Ньюингтона бросали обществу молчаливый упрек. Территориальный дух выражался, в частности, в том, что носили эти молодые люди; одежда «тедди-бойз», как и их последователей — «модз», — являлась главным и часто единственным знаком самобытности. Фактически «тедди-бойз» были обязаны своим обликом респектабельным портным Сэвил-роу и Джермин-стрит, старавшимся популяризовать среди мужской клиентуры образ «эдуардианской»[150]изысканности. Имя Эдуард превратилось в уменьшительное Тедди, и новый гибрид был сотворен. На смену привычной в конце XIX и начале XX века фигуре бедно одетого рабочего парня в стандартной кепчонке пришел образ юнца в бархатном пиджаке и брючках-дудочках. Беспечная, свободолюбивая дерзость, уже продемонстрированная детьми «блица», по-прежнему давала себя знать. В XVIII и XIX веках одежда, спускаясь по коммерческой спирали, «передавалась» от вышестоящих классов нижестоящим, однако в данном случае инициаторами передачи были именно нижестоящие. Здесь в очередной раз проявился природный лондонский эгалитаризм, соединенный с самоуверенностью и агрессией и хорошо различимый еще в средневековых учениках ремесленников. По существу многие «тедди-бойз» как раз и были подобными учениками.