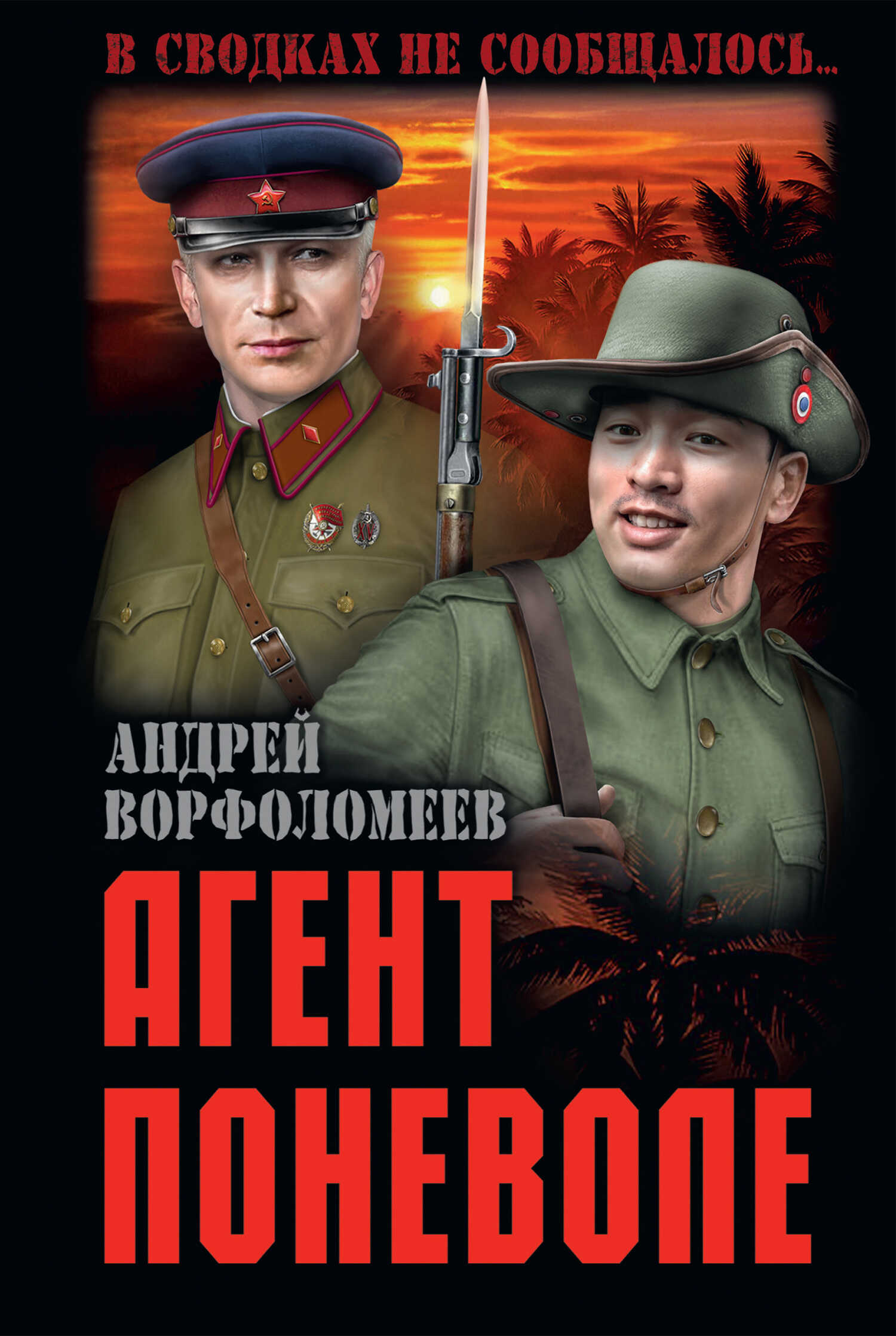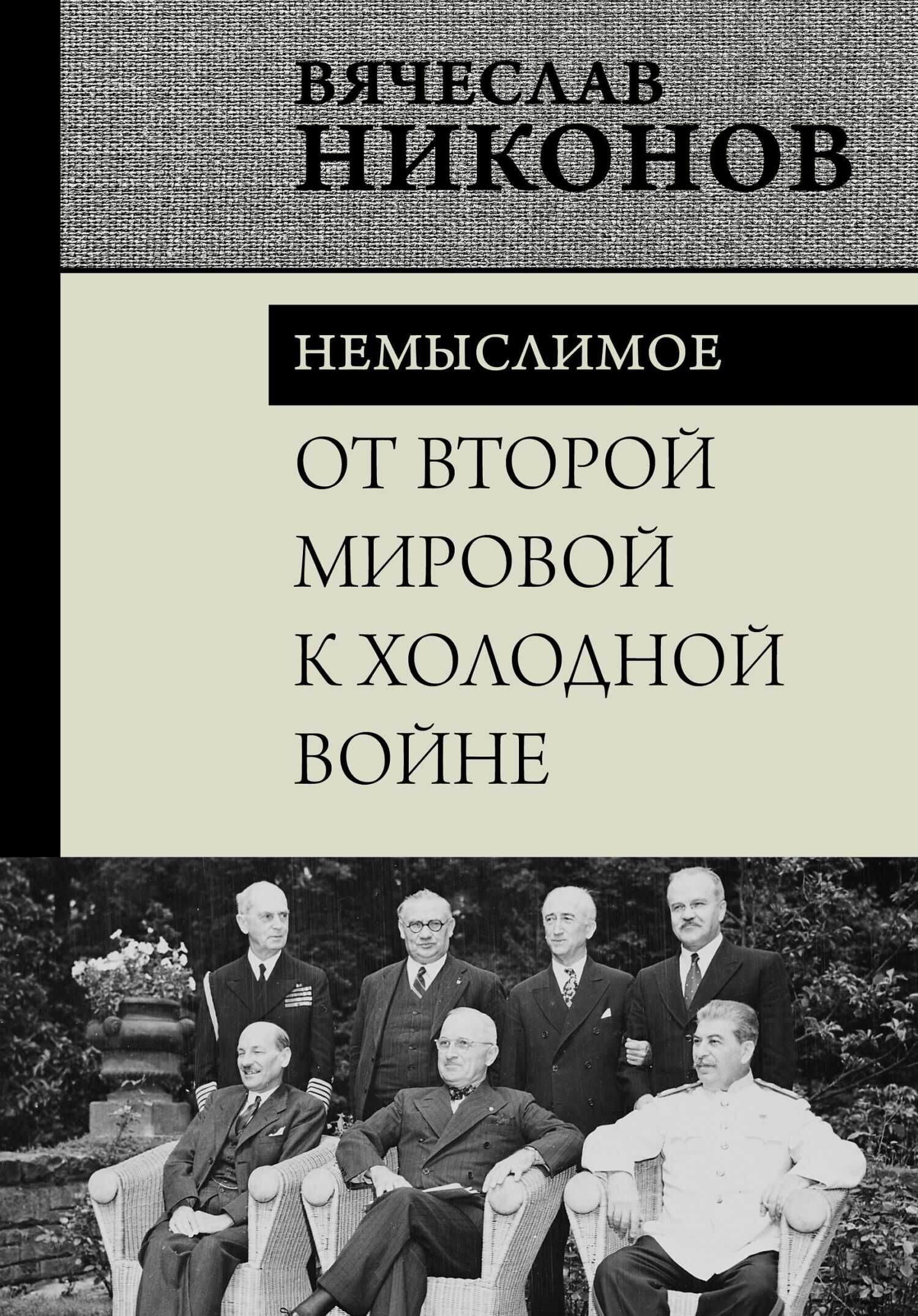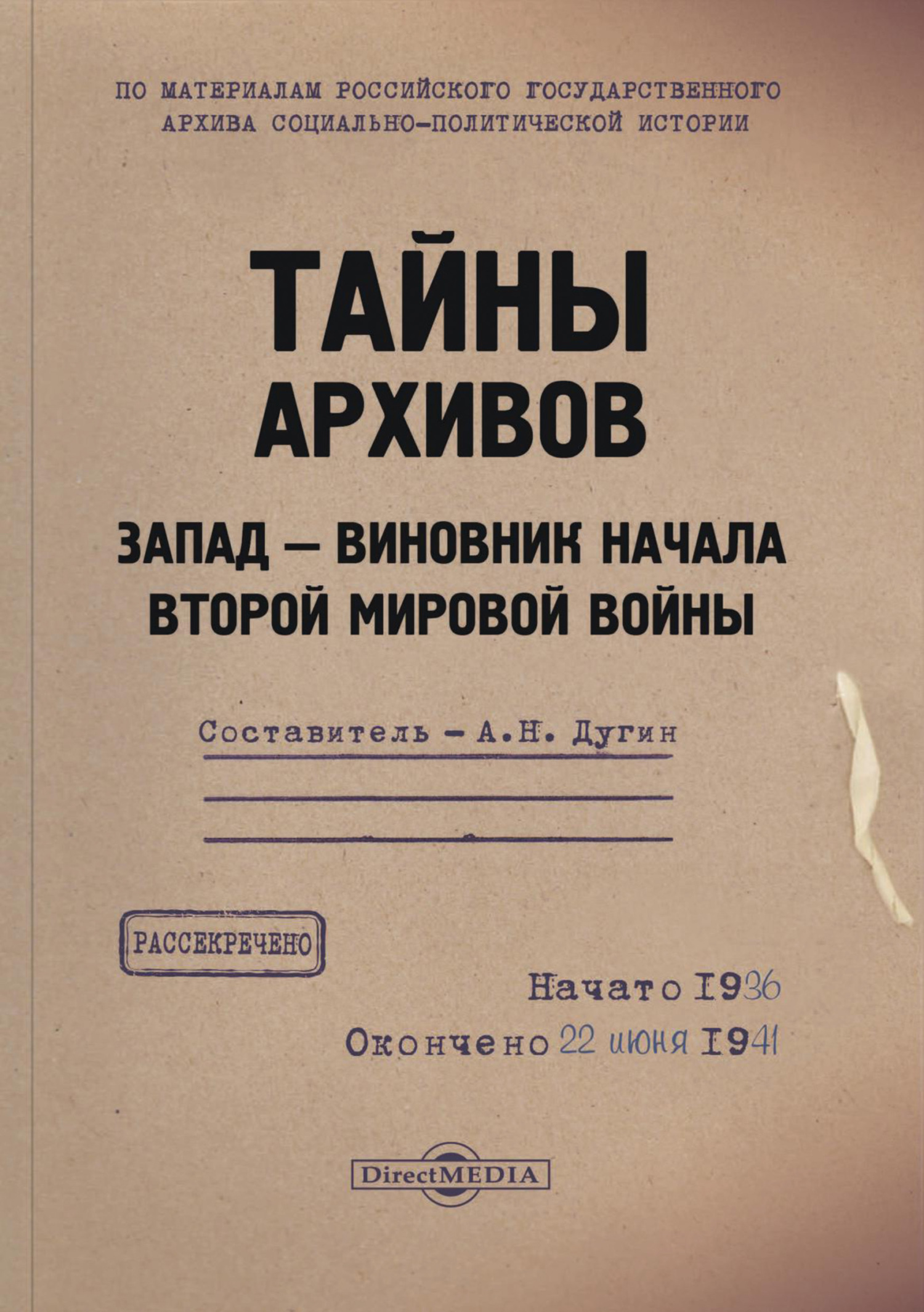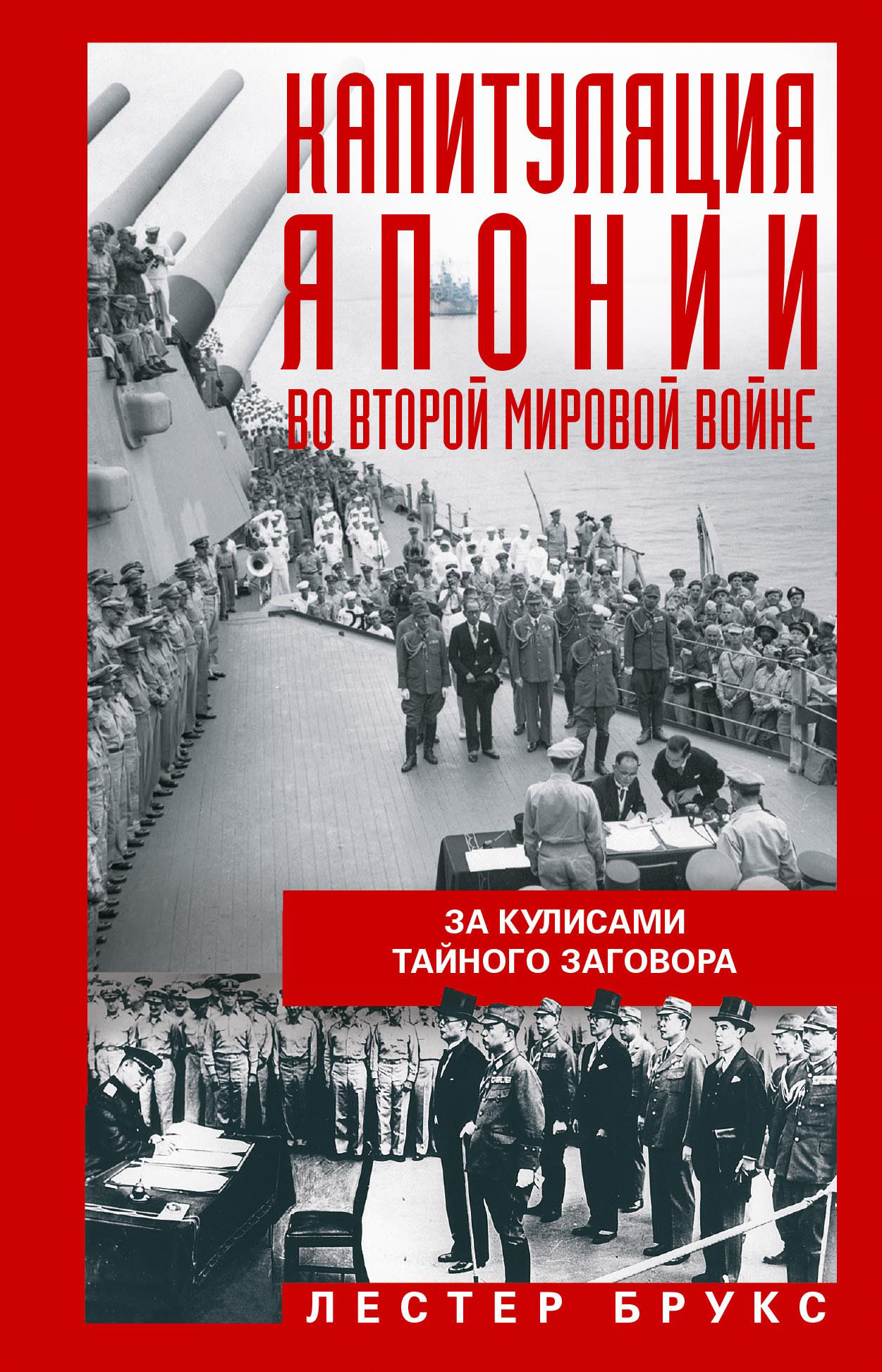3-ю и 4-ю румынские армии и, продвигаясь, друг навстречу другу, с юго-запада и северо-запада, замкнуть кольцо окружения в районе Калача и Советского. Здесь многое решал темп наступления, поэтому в распоряжение генералов Ватутина и Еременко передавались все, прибывшие из резерва Ставки, подвижные соединения – танковые, механизированные и кавалерийские корпуса. Чуть более скромная задача возлагалась на Донской фронт генерал-полковника Рокоссовского. От него требовалось, во взаимодействии с армиями левого крыла Юго-Западного фронта, окружить немцев в излучине Дона и воспрепятствовать их возможному отходу от Сталинграда. После чего, приступить к расчленению и ликвидации окруженной группировки.
Первоначальным сроком перехода в наступление были назначены 9 и 10 ноября. Однако, далеко не все выделенные средства усиления успевали сосредоточиться к этому времени. Да и подготовиться командующие фронтами хотели получше. Поэтому, в Ставке решили не спешить и перенести сроки начала операции на десять суток. Соответственно, 19 ноября для Юго-Западного и Донского и 20 – для Сталинградского фронтов. Нельзя сказать, что наши военачальники открыли какую-то Америку. Немцы прекрасно осознавали ненадежность своего положения. Просто, они не учли способности Советского Союза к самовосстановлению и считали Красную армию окончательно обескровленной. Оттого и не успели среагировать на возникшую угрозу.
Почти все, участвовавшие в операции «Уран», вспоминают густой туман, окутавший поле сражения утром назначенного дня. Причем, это погодное явление отмечалось, как 19, так и 20 ноября. К примеру, на командном пункте 64-й армии не было видно не только позиций противника, но даже своих, сосредоточившихся для атаки, войск. Вдобавок, ещё и повалил сплошной снег.
– Ну, что там у вас? – позвонил генералу Шумилову командующий фронтом Еременко, находившийся на наблюдательном пункте соседней 57-й армии. – Как видимость?
– Сплошная белая мгла, товарищ командующий.
– А что думаете о возможностях наступления в таких условиях?
– Считаю невозможным. Это сложнее, чем в самую темную ночь. Противника не видно, а опасность ударить по своим велика. Да и войска к действиям в таких условиях не готовились. Надо ждать, пока рассеется туман.
– Правильно. Мы с товарищем Толбухиным того же мнения.
Белесая дымка начала редеть лишь после девяти часов и в 10.00 генерал-полковник Еременко отдал приказ начать артподготовку. Армии его фронта переходили в наступление с разными временными промежутками. Это было обусловлено тем, что приданные артиллерийские полки Резерва Главного Командования сначала участвовали в прорыве неприятельской обороны на главных участках и лишь потом рокировались на второстепенные. К таковым, собственно и относилась полоса 64-й армии. В 13.00, после прибытия средств усиления, здесь началась повторная артподготовка, теперь предшествовавшая непосредственно атаке. Однако сразу добиться успеха армии не удалось. Натолкнувшись на упорное сопротивление, её дивизии залегли, лишь незначительно продвинувшись вперед.
Совсем иная обстановка складывалась на других участках прорыва. К исходу дня, войска 51-й и 57-й армий взломали оборону румын на фронте до пятидесяти километров и в образовавшуюся брешь сразу же были введены 4-й кавалерийский и 4-й и 13-й механизированные корпуса. А навстречу им стремительно продвигалась 5-я танковая армия Юго-Западного фронта. Определенный успех имел и Донской фронт. Здесь, наиболее удачно действовала 65-я армия генерал-лейтенанта Батова, развивавшая наступление на Вертячий. Прикрываемая румынскими частями немецкая оборона затрещала по всем швам. Уже 23 ноября, в 16.00, 4-й танковый корпус Юго-Западного фронта, в районе Советского, встретился с 4-м механизированным корпусом Сталинградского фронта. Кольцо окружения полностью замкнулось. В «мешок» угодили 6-я полевая и, частично, 4-я танковая немецкие армии.
Теперь следовало подумать, как поскорее разделаться с окруженной группировкой. Сначала, эта задача возлагалась на 21-ю, 24-ю, 65-ю и 66-ю армии Донского фронта и 57-ю, 62-ю и 64-ю – Сталинградского. Однако первые же бои показали, что лихим наскоком здесь ничего не добиться. Немцы упорно сопротивлялись, умело используя сооружения нашего среднего оборонительного обвода, ещё летом возведенного на подступах к Сталинграду. Тем не менее, к концу ноября, площадь занимаемой ими территории сократилась почти вдвое. Зато и уплотнились и боевые порядки. Теперь пробить их стало значительно труднее. Последним осенним успехом советских войск стало занятие 21-й и 65-й армиями Песковатки и Вертячего. Как выяснилось впоследствии, основной причиной столь длительного «топтания на месте» была общая недооценка количественного состава угодившей в окружение неприятельской группировки. Немцев, в «кольце», оказалось не восемьдесят тысяч, как предполагала Ставка, а значительно больше. До двухсот тысяч! Кроме того, их постоянно подпитывала надежда и на скорую деблокаду. И они были отнюдь не беспочвенными. Уже 15 декабря удар, в направлении реки Мышкова, нанесла группа армий «Дон» генерал-фельдмаршала фон Манштейна, спешно собранная по прямому приказу Гитлера. Позиции войск 51-й армии оказались прорваны. Ещё немного и возникла бы непосредственная угроза тылам 57-й и 64-й армий. Ставка достаточно чутко отреагировала на этот кризис. По просьбе командующего Сталинградским фронтом Еременко, ему перенаправили 2-ю гвардейскую армию, ранее предназначавшуюся для ликвидации окруженной в Сталинграде группировки Паулюса.
Угрозу извне отбили. Однако и без армии Малиновского, ослабленные войска Донского фронта, по откровенному признанию генерала Рокоссовского, справиться с поставленной перед ними задачей не могли. Требовалась хотя бы небольшая передышка. Ну и соответствующее усиление, естественно. Верховный, очевидно пребывая в благодушном настроении после явного провала немцев вызволить из «котла» Паулюса, охотно пошел навстречу. Разрешил он произвести и одно организационное мероприятие, в принципе, назревшее уже давно. Для улучшения управляемости, Сталинградский фронт расформировывался, а три его армии, тоже участвовавшие в ликвидации группировки Паулюса – 57-я, 62-я и 64-я передавались Рокоссовскому. Тот незамедлительно решил познакомиться с их командующими.
Самым кружным и замысловатым оказался путь в прославленную 62-ю армию генерал-лейтенанта Чуйкова. Для того, чтобы попасть на его командный пункт, требовалось дважды переправиться через Волгу. Река, в это время, замерзла ещё не везде. Перейдя её у Дубовки, Рокоссовский с группой офицеров, на подготовленных машинах, добрался до места второй переправы. Здесь их уже ждал хорошо подготовленный проводник. Следуя его указаниям, командующий и сопровождавшие его лица заранее запаслись досками и веревками, для преодоления разбитых минами и снарядами участков льда. Впрочем, несмотря на беспокоящий вражеский обстрел, всё обошлось благополучно.
Врытые в песчаные откосы землянки и блиндажи командного пункта 62-й армии располагались прямо на берегу Волги. Об отгрохотавших ещё не до конца боях здесь говорило буквально всё. Блиндаж Чуйкова, то и дело вздрагивал от близких разрывов и сыпавшийся в щели между досками облицовки песок проникал, казалось, повсюду. Тем не менее, сама армия, своей храбростью и боевитостью, произвела на Константина Константиновича весьма благоприятное впечатление.
Следующий натиск на окруженную группировку Паулюса решено было произвести 10 января 1943 года. Пополнения людьми Донской фронт практически не получил. Зато присутствие представителя Ставки ВГК