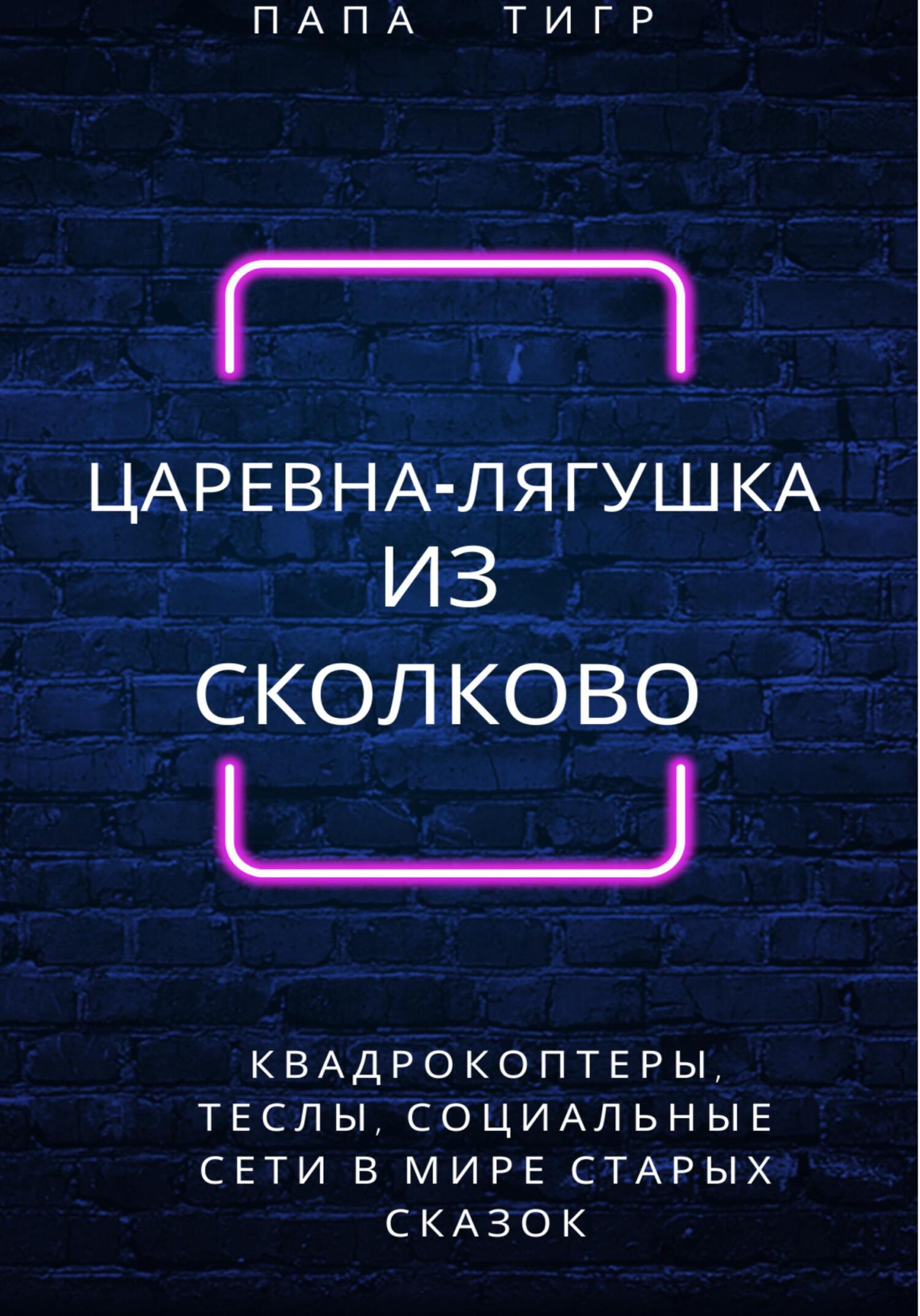добавила она и, снова косо взглянув на Лялю, резко сунула книжку ей в руки, – да не съем я вашу книжку, вот, держите. Как вы ещё живёте, не пойму!
Она посмотрела на Лялю, как курица на цыплёнка, и оставила одну. С книгой в руке Ляля молча дошла до своей комнаты и закрыла дверь. Кровь так стучала у ней в висках, что она даже подошла к зеркальцу и посмотрела себе на висок: ничего. Нет открытой раны, не хлестает кровь. Нет диких тигров, когтями рвущих ей голову. Ничего нет.
На развороте сборника был новый фотографический портрет: Развалов на нём сидел вполоборота, и один глаз его был в тени. Лицо, впрочем, было очень чётким. Оно бушевало на странице, и Ляля не могла оторваться, разглядывая и разглядывая. Его рука, лежащая на столе, почему-то была размытой, как будто он в последний миг хотел подать её кому-то для приветственного пожатия. Ляля вспомнила, что когда-то касалась его рук, но не могла точно вспомнить того касания – память о нём была смазанной, как пятно на снимке.
Боль из висков передалась всему её лицу и шее, лоб и щёки заломило, слёзы потекли жарко, и от этого ломота только усилилась. Терпя, Ляля разглядывала свою боль, как разглядывают небывало пузатый самовар на ярмарке: хорош, экземпляр, однако! откуда ж такой привезли?..
Или это был не самовар, а небольшая чугунная печка для кухни?
Ляле было громоздко со своей болью, её чугунные бока не помещались в груди и душили её, теснили каждый вдох и упирались прямо в глотку. Она ходила осторожно, зная, что из самоварного краника в любой момент может потечь кипяток. Кипяток этот, переполняя нутро, поминутно плескался у Ляли Гавриловны в груди, лишая её баланса и обжигая внутренности. Кажется, опрокинь её кто, так она бы и покатилась до самой набережной и не сумела бы сама остановиться и подняться.
В таком состоянии духа дожила Ляля Гавриловна до весны.
***
Для каждой раны уготован
шип —
Твою терзать я стану рану,
пока я жив.
Сон на рассвете разрывает
крик —
Мой мрак с рассветом затенит
твой лик.
Скажи, твоя любовь сильней
небес?
Люби и знай, что твой любимый —
бес.
Есть миг у нас! Клянись на сердца
склеп,
Что я милей тебе, чем солнца
свет.
Обвив любовно, так держи
меня,
Как ты держалась Бога, жизнь
любя.
Но если день меня дотла
спалит,
То и тогда —
не отпусти.
Как неоспоренное перерастает в неоспоримое?
– Вы заметите, молодые друзья мои, что метод обучения в нашей школе в коренном роде отличен от любых современных академических методов.
Возможно, вы даже удивлены: почему при зачислении в Высшую школу общественных наук от вас не потребовали документов ни о прохождении иных курсов, ни об обучении в гимназии et cetera? Да потому, что это первый истинно свободный русский университет за границей!
Это вам не парижский Свободный коллеж социальных наук или Свободная высшая школа общественных наук и не Новый Брюссельский университет[42], прости Господи. Мы тут обращаемся к вашим умам, а не к пройденным курсам, хм-хм. К вашим мыслительным аппаратам и к вашим душам!
Лектор кажется Ляле Гавриловне ящерицей в пиджаке, сучащей перед сухой грудью лапками.
– Вы, молодые господа и дамы, выбрали курс по литературе и филологии, и это вполне замечательно. Но знаете ли вы, какие ещё дисциплины сей курс содержит? Не только современные логику и риторику, но и социологию, этику, историю искусства, основы рационального мышления, а также и политическую экономику, и этнографию, и историю богословия, et cetera. Тут вы познаете вкус знания без горечи лжи! Такого знания, кое нельзя постичь разумом, но сердцем, вашим сердцем!
Кто-то, сидящий впереди, поднимает руку и, ободрённый скачком профессорской руки, замечает:
– Не будет ли знание, постигаемое сердцем, не знанием, а чем-то другим? Для знаний у человека есть особый орган – разум, а постигаемое сердцем – это, скажем… разве не мораль?
– Мораль? Мораль, молодой человек? Но что есть мораль? И что вы ответите мне, если я спрошу вас, в чём заключено отличие промеж моралью, нравственностью и этикой?
Вскакивает юноша в усиках и что-то говорит о Гегеле и общественном сознании.
– Нет-нет, мой молодой друг, это не то: не Гегель, а вы, вы сами-с как изволите понимать?
Не дав ответить, профессор не унимается:
– А что, если я скажу вам, что мораль происходит от славянского слова мор?
– Но ведь это латинское слово, и происходит оно от moralitas, – удивлённо отвечают усики.
– Нет! О, говорю же вам: отбросьте хоть на минуту то, что вы знаете! – нетерпеливо восклицает профессор. Его коричневая голова при вскриках ходит впереди туловища, как у черепахи.
– А я говорю вам: довольно ясного взгляда на слово мораль, как станет видно, что оно происходит от славянского мор, и потому мораль ведёт к вымиранию! Ибо мораль есть не что иное, как уничтожение всего, что удобно и приемлемо для отдельной личности!
– Но мы же не можем полагаться на элементарное подобие между словами, строя выводы, – удивлённо говорят усики, так и не сев, – словесный анализ не строится на пустом внешнем сходстве, это же дилетантизм.
– Нет, вы не хотите понять! Вас совершенно отучили мыслить самостоятельно. Ну же, просто попробуйте представить: никакой латыни не было вовсе, вас всё время дурачили! Ну, как вы докажете, дорогой мой, что латынь была? Вы привыкли так думать и успокоили свой мыслительный аппарат, ибо были приучены к тому. Как я и ожидал, ни единого собственного вывода-с!
– Но если мораль – славянское слово, то откуда это самое слово встречается в итальянском, французском и прочих языкам, исторически не вышедших из старославянского?
– О, дорогой мой, вы просто закрыты от знания и на желаете узнать новое! Вас приучили так считать, вас накормили ложью, вот и всё!
Прежде чем удивлённые усики отвечают, лектор вскрикивает:
– А нравственность? Что есть она? Нравственность есть то, что удобно окружающим нас людям. Вот что это! Ну, а этика? Что есть этика? Этика – новое понятие…
Девица, лица которой Ляля не видит, тянет руку. Со спины она напоминает Ляле грациозное молодое животное, вышедшее из