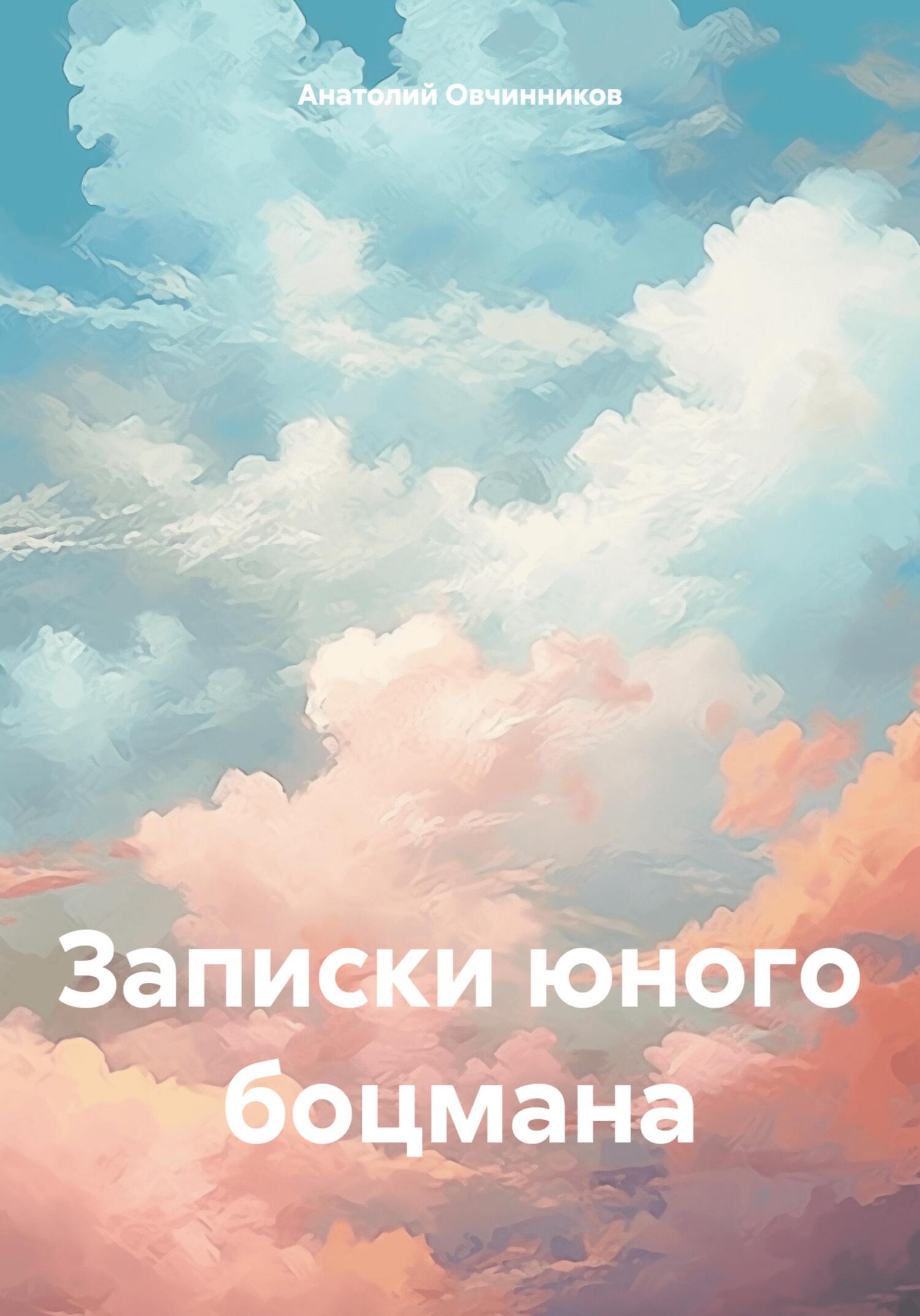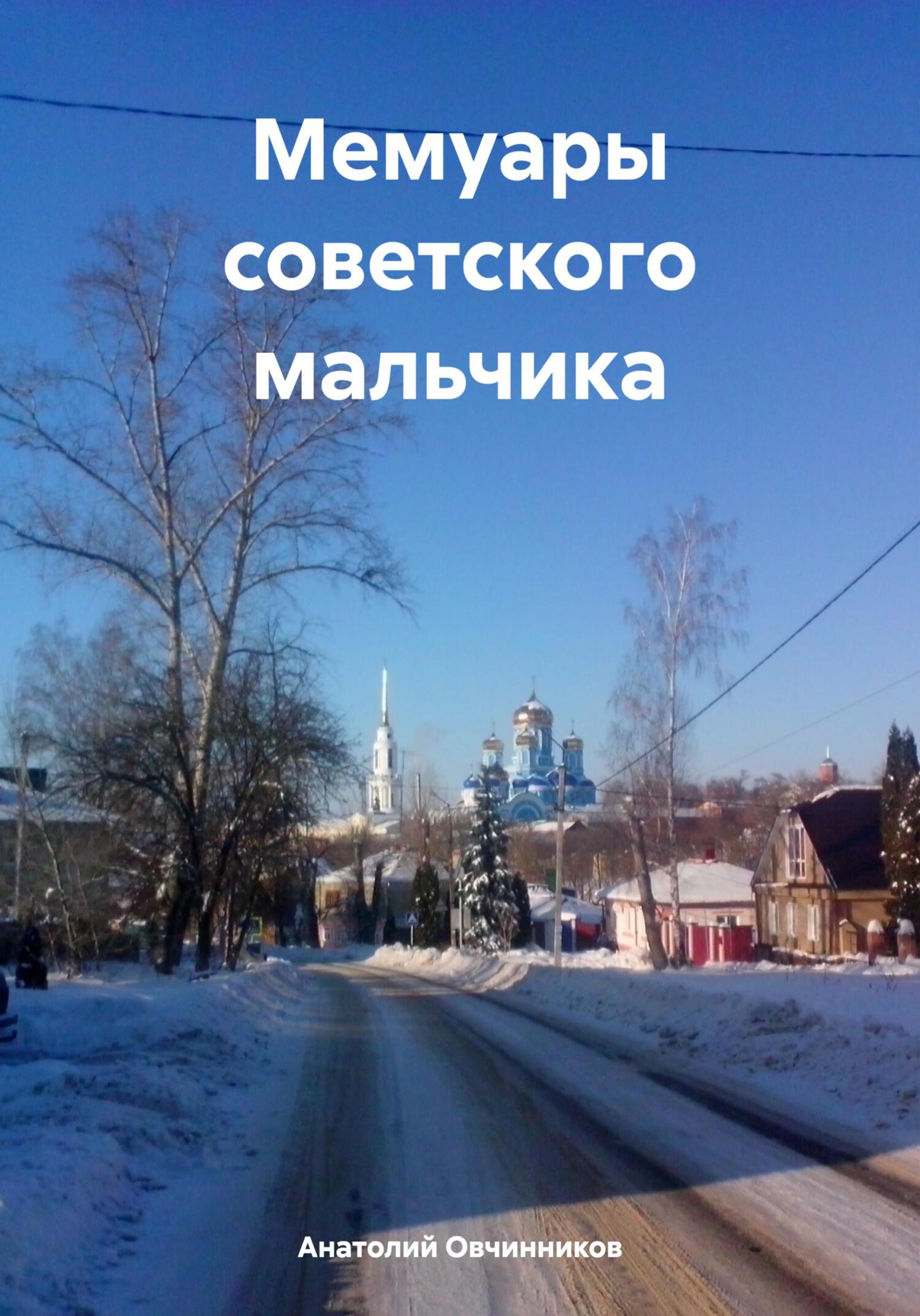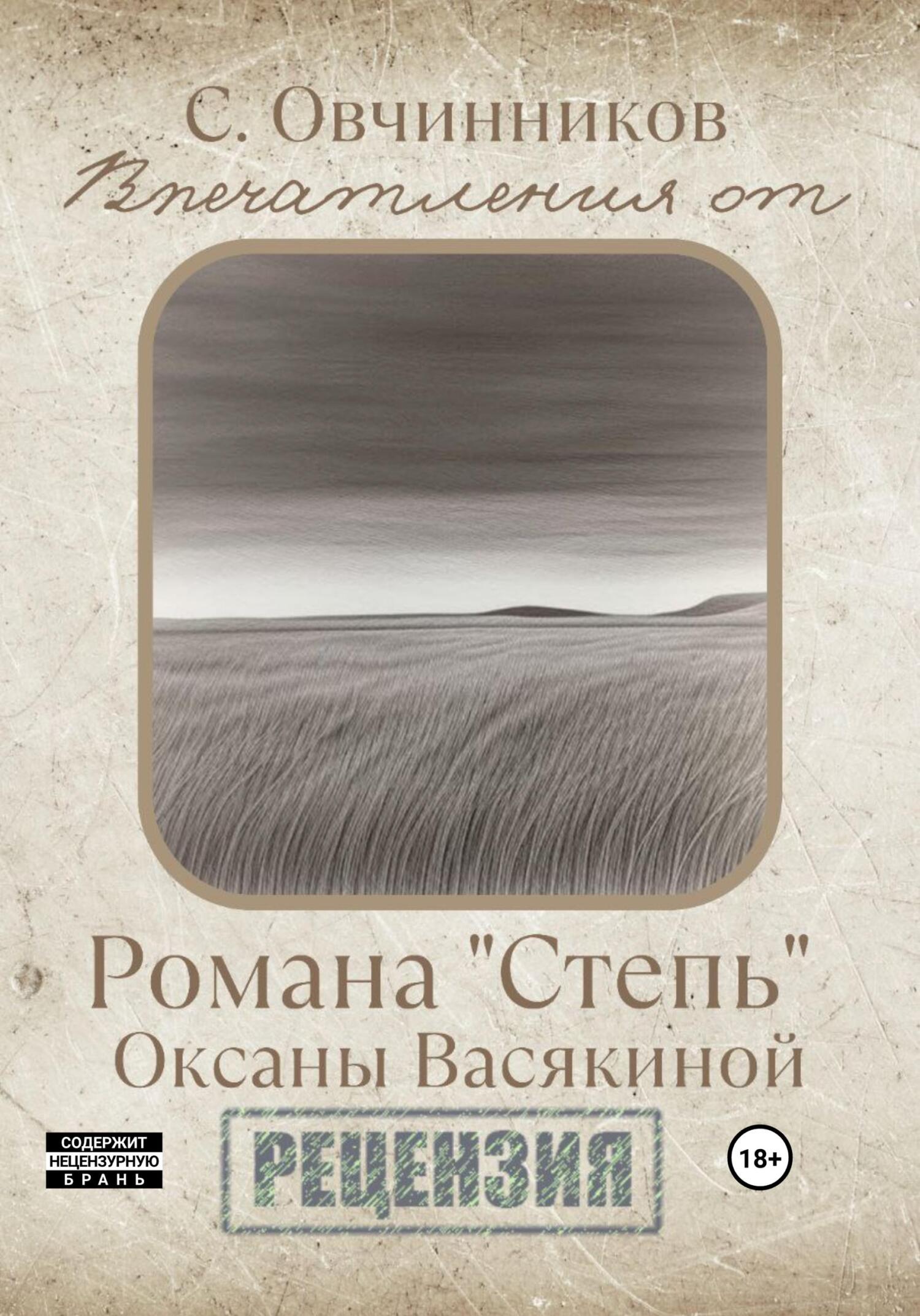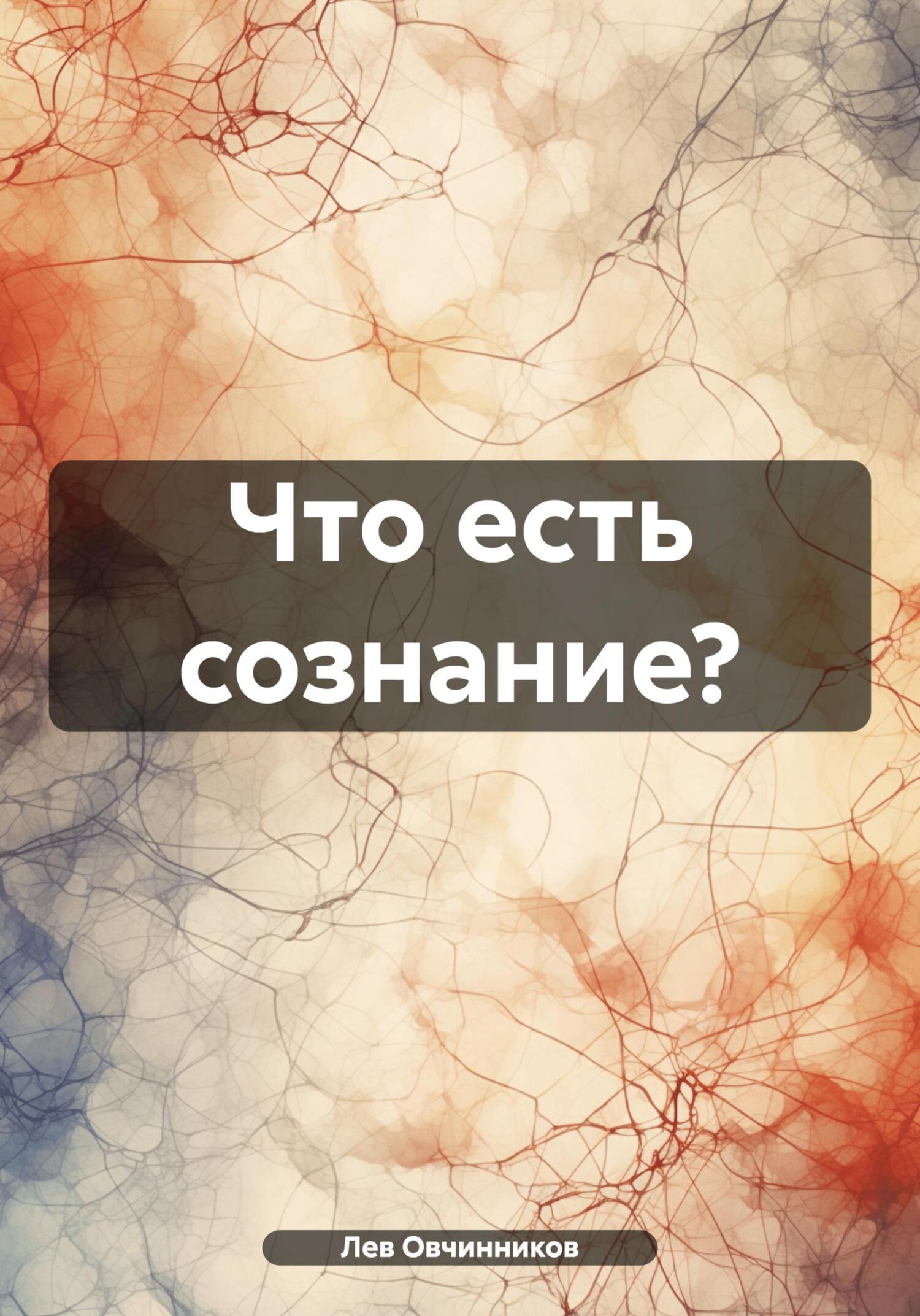одного обхода, ни одного разбора пациентов, проводимых его любимым учителем. Вместе со своими коллегами: ассистентом клиники Григорьевым и ординатором Васильевым – он записал и подготовил к печати два тома «Клинических лекций» Н.Ф. Филатова. Эти лекции, отредактированные самим автором, были изданы в 1901 году в типографии А.И. Мамонтова и неоднократно переиздавались в последующие годы.
После смерти Нила Федоровича в 1902 году началась самостоятельная врачебная жизнь Сперанского. По окончании ординатуры он был оставлен в клинике сверхштатным ассистентом, то есть не получал жалованье. Поэтому он стал одновременно работать школьным врачом в Александро-Мариинском институте благородных девиц кавалерственной дамы Чертовой на Пречистенке. Кроме того, некоторый доход приносила частная практика и консультации новорожденных в акушерской клинике профессора Николая Михайловича Побединского.
Об этом периоде жизни Георгия Несторовича написала в своих рукописных воспоминаниях С.Н. Куманина-Декапольская: «…И вот в 1900 году, кажется в январе, моя младшая сестра… тихо созналась мне, что у нее болит горло. Как только мы легли спать, сестра позвала меня к себе в кровать, сказав, что ей очень холодно и чтобы я ее согрела. Я легла к ней, но вскоре пришла наша няня, побранила меня и прогнала в свою кровать. На следующее утро мы со старшей сестрой, как всегда, к восьми часам утра пошли в Александро-Мариинский институт на Кропоткинской (в то время Пречистенской) улице, где сейчас помещается военная Академия им. Фрунзе (потом Академия художеств, теперь – выставочный зал скульптора Церетели. – А.О.). В этом институте мы, в виде исключения, были приходящими. В 4 часа дня за нами пришла наша домашняя работница, чтобы вести нас домой (в то время нас одних по улицам не пускали), и сказала, что очень заболела наша младшая сестра, у нее «дифтерит», как сказал Нил Федорович Филатов. А мы пойдем через черный ход (так прежде называли второй выход из квартиры, бывший всегда около кухни), пообедаем и, не заходя в квартиру, поедем к нашей замужней двоюродной сестре, жившей на Большой Серпуховской. Мы уехали. И вот через несколько дней заболевает моя старшая сестра: температура, болит горло. Я, как взрослая, пишу письмо и посылаю работницу к Нилу Федоровичу. Он прислал мне ответ, что сам приехать не сможет, а приедет его ассистент. И действительно, около 5 часов приехал молодой, красивый доктор. Он немного был смущен, увидав вместо ребенка 17-летнюю девушку. Он тщательно ее исследовал и успокоил нас, что это не дифтерит. И действительно, через несколько дней мы с сестрой уже опять начали ходить в институт. Это было мое первое знакомство с Георгием Несторовичем Сперанским.
Через три года сестра вышла замуж, и у нее родилась дочь. В то время Нила Федоровича уже не было в живых, и сестра всегда обращалась к Георгию Несторовичу. В 1904 году девочка тяжело заболела. Положение было серьезным. Георгий Несторович был у нас днем. Вечером мы все сидели в столовой, окна которой выходили на улицу. И вдруг, в половине десятого, звонок. Мы никого не ждали. Входит Георгий Несторович, улыбается и говорит: „Иду мимо, вижу в столовой огонек, наверно, пьют чай и мне не откажут дать стаканчик“. Сидим, говорим о посторонних вещах, а он, как бы между прочим, спрашивает про температуру. Я как раз носила девочку на руках, она вся горела. Он стал прощаться и, как бы невзначай, высказал пожелание посмотреть девочку, после чего дал некоторые указания и ушел. Девочка вскоре поправилась, и впоследствии выяснилось, что история „зашел на огонек выпить стакан чаю“ была только очень сильным беспокойством за состояние ребенка и нежелание тревожить родителей.
Таких случаев я могла бы описать очень много, но ограничусь только еще одним в семье моей двоюродной сестры. В 1906 году, в июле, у нее родился сын, а в августе она заболела брюшным тифом и вынуждена была перевести ребенка на искусственное питание. В ноябре они жили в своем имении во Владимирской области, где у мальчика развилась тяжелая форма желудочного заболевания. Местные врачи растерялись. Тогда моя тетя, жившая в Москве, попросила Георгия Несторовича поехать с ней к больному внуку. Сперанский согласился и нашел состояние ребенка очень тяжелым. Он настоял на том, чтобы отвезти ребенка в Москву. До железнодорожной станции было 30 минут езды. Все поехали. В первых санях ехала бабушка с Георгием Несторовичем, в возке ехал отец с больным ребенком, в других санях ехала мать (она не могла ездить в возке). Через каждые 10 минут Георгий Несторович останавливал наш поезд и проверял состояние больного. Таким образом, мы довезли мальчика до станции, а затем и до Москвы. Ребенок был спасен, и теперь это здоровый, красивый мужчина 57 лет, работающий на производстве. Георгий Несторович до последних лет никогда не отказывал в помощи всем тяжело заболевшим детям… Потом я встретилась с Георгием Несторовичем в 1905 году в Александро-Мариинском институте, где я училась и куда поступила работать в качестве классной дамы. Георгий Несторович был врачом в этом институте. Сколько внимания и заботы он проявлял к девочкам, как его все любили за его чуткое, внимательное отношение к ученицам…»
В 1904 году, скопив необходимую сумму денег, Сперанский во время летних каникул впервые отправился за границу. Он побывал в Берлине, где слушал лекции известного немецкого педиатра профессора Хойбнера (Heubner), а также в детских клиниках Вены и Будапешта. Спустя три года, в 1907 году, известный акушер Александр Николаевич Рахманов предложил деду постоянное место врача – консультанта по детским болезням в родильном доме имени А.А. Абрикосовой, который он возглавлял (после революции – родильный дом им. Н.К. Крупской). Несколько позже этот родильный дом был преобразован в акушерскую клинику Высших женских курсов. При этом учреждении Сперанский организовал первую в Москве консультацию для новорожденных и детей раннего возраста. Она располагалась на Лесной улице в доме № 11. К этому времени Георгий Несторович опубликовал свой учебник для родителей «Физиология ребенка и его болезни»[47]. В предисловии к нему он написал: «Ни в одной области практической медицины не приходится встречаться с таким количеством вековых предрассудков и изустных преданий, как в деле ухода за здоровым и больным ребенком. Происходит это от незнакомства родителей с основными положениями гигиены и физиологии детского возраста. …Данная книга… служит средством более или менее познакомиться с организмом ребенка, чтобы сознательнее относиться к вопросам воспитания и ухода за ребенком в его здоровом и больном состоянии. Если она хоть несколько пополнит этот пробел в знании родителей, цель моя будет достигнута». Этот учебник был первым изданием среди