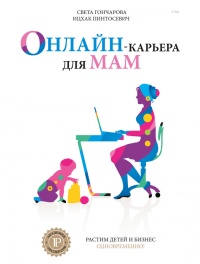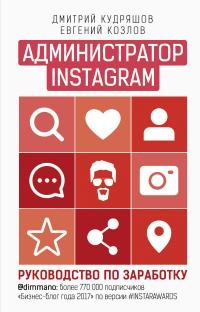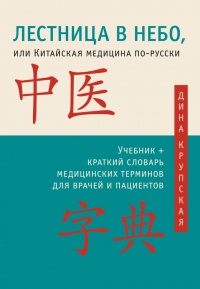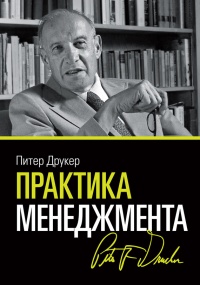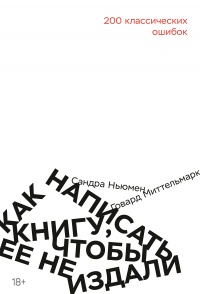Из цикла «Каратэ-хокку» Речь пойдет об авангарде, истории и об одном человеке, который переиграл историю. Писать этот текст затруднительно, так как я имел счастье дружить с моим героем в последние несколько лет его жизни. Дистанции не получается. Но я попробую. Потому больше про обстоятельства, чем про человека.
Сначала – авангард. Его часто путают с модернизмом, что неправильно. Модернизм есть художественная функция от modernity – искусство, возникшее, производимое и воспроизводимое в рамках определенной формы общественного сознания, определенного типа мышления, которое специалисты называют «модерным». Это сознание исходит из того, что нынешнее состояние, «современность», есть, во-первых, наилучшее (точнее, наиразвитейшее) из возможных, во-вторых, оно не имеет границ и, в-третьих, готово подчинить, включить в себя абсолютно все, сколь бы отдаленным это «все» ни было – географически, хронологически или даже культурно. При всей своей часто скандальной новизне и неприязни к филистеру, модернизм есть чисто буржуазная культурная эпоха. Как и индустриальное производство, как и наука Нового и Новейшего времени, модернизм представляет собой своего рода фабрику по производству современных образов, слов, звуков и мыслей; за сырье сходит абсолютно все, до чего дотягивается рука – будь то Древний Египет или быт и нравы русских старообрядцев. Иными словами, модернизм есть главная армия, которая не только ведет баталии, выигрывает кампании, она обустраивается на завоеванной территории, создает подчиненную себе местную власть, систему эксплуатации, свои газеты, деньги, храмы, публичные дома и продовольственные магазины.
Авангард же есть передовой отряд модернизма, но только на первых порах. Сам военный термин «авангард» подразумевал странный – и в каком-то смысле обреченный – характер этого армейского подразделения. Авангард движется по неисследованной территории, он первым вступает в бой с противником, еще не имея представления о его численности, он первым испытывает на себе мощь врага, чем больше он теряет солдат, тем понятнее главнокомандующему армии, с кем конкретно ему придется иметь дело. В каком-то смысле, чем бо́льшие потери понесет авангард, тем больше шансов на успех во всей кампании, ибо знание – сила, а знание о противнике пропорционально ущербу, нанесенному авангарду. В этом смысле авангард обречен. И не только в этом. Какие бы чудеса героизма ни демонстрировали его бойцы, все будет оттеснено на второй план результатами решающей баталии. Очень редко кто помнит о судьбе авангарда. Что там случилось с теми, кто вступил в первые стычки перед Каннами? Азинкуром? Полтавой? Фонтенуа? Аустерлицем? Сталинградом? Молчание; только специалисты по военной истории могут свидетельствовать об отправленных в разведку боем частях и подразделениях, но кто же читает книги специалистов по военной истории – кроме самих этих специалистов?
Более того, авангард ведет военные действия не так, как основная армия. Его задача – быть агрессивным, наглым, нахальным – но при этом и рефлексивным, так как задача его не столько убить как можно больше врагов, сколько узнать как можно больше о враге и даже каким-то образом наметить повестку будущего сражения или будущей кампании. Авангард имеет дело с незнакомым – страной, территорией, противником, оттого его участь, с одной стороны, зависит от того, насколько удачно он добудет сведения, знания, а с другой – как никто, он подвержен колебаниям фортуны. Авангард находится в критической точке пересечения рационального и иррационального, закономерного и случайного – к тому же, конечно, бойцов авангарда берут в плен гораздо реже, чем солдат главной армии.
Оттого жизнь и персона авангардиста гораздо интереснее таковых обычного рядового и командного состава модернизма. Авангардист пережил то, что другие не нюхивали, он пожертвовал собой ради успеха всего предприятия, зная о своей обреченности на забвение. Он действовал иным способом, нежели другие, – но при этом оставался в рамках целого, он не партизан, а солдат регулярных войск. В какой-то момент авангардист очень нужен, от него зависит многое – но потом, если он выжил, на него (если не забыли вовсе) смотрят с большим недоумением.
Все вышесказанное имеет отношение к Западной и Центральной Европе, отчасти к Соединенным Штатам. В России в XX веке была сыграна другая пьеса. Там главный агент модернизации, большевики, признав поначалу русский авангард за своего (но неохотно, неохотно), довольно быстро – и навсегда – с ним разошлись. Уже с конца 1920-х годов модернизация страны производилась на фактически дореволюционном культурном материале, в ход пошел «реализм», ампир, всяческая народность и прочие вещи из музея Старой России. Ретроспективные вещи должны были составить костяк перспективной утопии. Авангард же, попытавшись поначалу объяснить неразумным правителям, что, мол, он есть главный и естественный их союзник, постепенно отошел в сторону. И это вполне логично. Во-первых, радикализм политический крайне редко (и уж особенно в России) сопровождается радикализмом эстетическим[68]. Во-вторых, авангардисты занимались как раз изготовлением новых вещей для нового будущего – и в этом они совершенно не совпали со сталинским поворотом к старым вещам. Так или иначе, одни авангардисты умерли, другие перековались (далеко не всех это, впрочем, спасло), а третьи отошли в сторону, попав из бурного потока политической и общественной актуальности на обочину, где занялись обустраиванием эзотерических ниш, вообще-то тогдашнему авангарду несвойственных (и это тоже мало спасало). Потом пришла война и все кончилось.