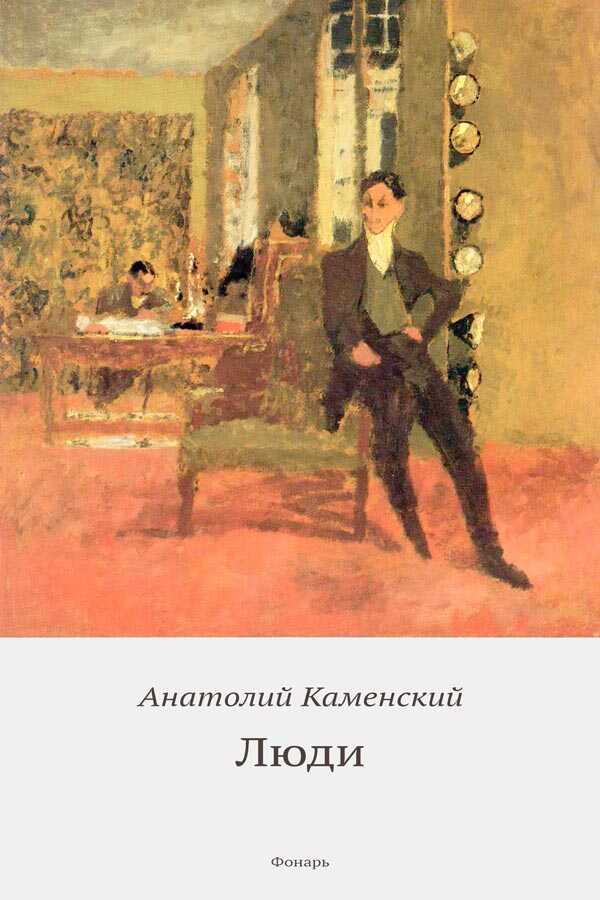Каталина не могла никому предложить серьезную дружбу, поскольку не решалась высказывать свое мнение, не услышав сперва чужое. Если у Сильвии, или у Гильермо, или у обоих сразу была точка зрения, с которой она не соглашалась, Каталина молчала из страха быть отвергнутой и только делала вид, что почти со всем согласна; правда, иногда они расходились во мнении друг с другом, и это оказывалось хуже всего, потому что Каталине надо было выбирать, на чьей она стороне, и потом несколько дней протекали в ссорах, от которых сердце у нее трескалось, как папины локти.
Она гадала, обсуждают ли они ее за глаза подобно тому, как Каталина иногда говорила с Гильермо о Сильвии, а с Сильвией о Гильермо. Но ей это давалось легче, чем обоим друзьям, потому что она научилась этому дома. Злословить о других было в ее семье обычным делом, само собой разумеющимся. Папа любил с мамой перемыть косточки дядьям Каталины, о которых она слышала только, что они много зарабатывают, но в итоге все равно ходят просить деньги у бабушки с дедушкой, а мама судачила со всеми подряд обо всех подряд, даже о Паблито.
Еще Каталина заметила, что Сильвия с Гильермо все чаще строят планы без нее, а она узнает о них только спустя несколько дней. Она изводила себя, пытаясь понять, почему они ее вот так иногда бросают. Друзья знали, хоть она сама об этом не рассказывала, что папа с мамой почти ничего ей не разрешают, поэтому старались не упоминать о своих планах на субботу, чтобы не слушать жалкие оправдания Каталины, почему она не сможет с ними пойти. Каждую неделю ее терзали сомнения и недоверие к друзьям, и то, что Сильвия с Гильермо все больше времени проводят без нее, только вдвоем, начинало ее тревожить. Она мечтала, чтобы поскорее закончились каникулы и стало известно, попадут ли они снова в один и тот же класс, а главное, молилась, чтобы не оказаться отдельно от них.
Она не знает, как после сегодняшнего сможет смотреть на Сильвию и не видеть при этом лицо ее отца. Она еще не задумывалась о том, как в ответ посмотрит на нее подруга. Каталина думает, не вернуться ли, ведь час уже поздний, и похоже, что в такое время тут больше никто не ездит. А она уже рискует опоздать. Может, Сильвия о чем-то догадалась? А вдруг она тоже подумает, что Каталина сама виновата? Она сомневается, что Сильвия встанет на ее сторону. Каталина думает о том, что ей нравится и не нравится в подруге, как она завидует уверенности, с которой та высказывает свои мысли, и тому, как легко ей удается выпрямить кудри, – и в то же время о язвительных комментариях в адрес Елены Сорни, когда они в ссоре, о том, как Сильвия, ругая ту на все лады, делает такое движение, будто разглаживает тетрадку ладонями вытянутых рук. Каталина смотрит на свои руки, на обкусанные со злости большие пальцы, и находит шрам, который остался у нее после происшествия с бритвой. Она вспоминает мамины руки: как они застирывают трусы Паблито, как они разрывают пакет, который ей послали Гильермо и Сильвия, как жестикулируют, когда она неуклюже им подражает. В тот день мама показалась ей нелепой и инфантильной, маленькой девочкой, какой ее воспринимает папа. Каталина спрашивает себя, не могла ли мама тоже почувствовать боль от ранки, которую нанесла ее пальцу, учитывая, как тяжело ей было смириться с тем, что тело дочери ей не принадлежит и она не может ее заставить удалить волосы с ног, внезапно показавшихся ей чересчур мохнатыми. Мама еще говорила, что не знает, в кого Каталина такая волосатая, как будто сама не делает восковую эпиляцию каждые пятнадцать дней, потому что не выносит вида волосков, пробивающихся через кожу. Может быть, в глубине души она одобряла, что Каталина не хочет избавляться от растительности на теле (как в тот раз, когда дочь отказалась носить бандаж), но если так, то лучше бы мама что-нибудь сказала, а то Каталина с тех самых пор, даже не особенно об этом задумываясь, из-за мятежных щетинок, которые так раздражали маму, вкупе с месячными и с выделениями, появляющимися на трусах без всякого предупреждения, начала еще чуть больше ненавидеть эту рукастую и ногастую конструкцию ростом почти метр восемьдесят, которую становится все сложнее прятать.
Вместо того чтобы извиниться, мама, когда поранила ей палец бритвой, рявкнула, что «нечего так дергаться», а потом, увидев капельку крови и испуганное лицо дочери, добавила очень тихим голосом: «Я не специально» – самое близкое к извинению, что можно услышать в их семье. «Ты что, совсем того?!» – огрызнулась Каталина так громко, что даже разбудила дремавшего папу.
– Мне что, даже в отпуске отдохнуть не дадут?! – проревел он с кровати. – Что у вас там случилось?
– Ничего, пап, это я спросонья, – соврала Каталина, глядя на маму.
После пореза мама испробовала самые разные средства, чтобы удалить с дивана пятнышки крови, но безуспешно. Ничего не оставалось, кроме как при выезде заплатить штраф за порчу имущества. Когда папа спросил, откуда взялись эти темные пятна, за которые он должен раскошеливаться, мама свалила вину на него самого. Папа за обедом как раз занимал диван, так что он не усомнился в словах супруги, когда она сказала, что пятна от вина. Каталина, присутствовавшая при этом объяснении, неодобрительно закатила глаза, но в то же время заметила, как ловко маме даются выдумки, и узнала себя в ней. Интересно, подумала она, сколько фиктивных историй в маминой библиотеке лжи.
Мама не уловила никакого неодобрения в лице дочери, когда врала папе про диван. Она уже давно воспринимала дочь как свою союзницу и соучастницу в таких делах. Каталина тяготилась этой обязанностью, но подыгрывала маме во всех ее хитростях, чтобы взамен выгадать что-нибудь для себя, – скажем, чтобы мама ее прикрыла, когда надо будет избежать разговора с папой. Врать папе у них получалось спонтанно, это был самый естественный способ добиться своего. Например, когда мама с Каталиной ходили по магазинам и мама добывала что-нибудь для себя: платье, пальто, антивозрастной крем, да что угодно. Прежде чем войти в дом, мама объясняла свой план: «Когда папа спросит, сколько стоило, назовешь сумму вдвое меньше, чем на ценнике». Если вещь была явно дорогая, Каталине полагалось упомянуть, что она продавалась со скидкой шестьдесят процентов. «Шестьдесят процентов, пап!» За это, когда Каталина хотела сходить в муниципальный бассейн или поехать на экскурсию с классом, мама ее отпускала, а между собой они договаривались, какую версию изложат главе семьи: что она идет на какое-нибудь мероприятие в школу, или в подростковый клуб, или еще куда-то в таком духе.
Только однажды за весь прошлый учебный год Каталина попыталась все сделать честно, без обмана. Целую неделю она собиралась с духом, чтобы попросить у папы разрешения поехать с классом на экскурсию к древнеримским развалинам, но в последний момент, когда она уже завела с ним разговор и готова была задать свой вопрос, у нее случился приступ гипервентиляции, и она потеряла сознание. Придя в себя, она первым делом произнесла давно отрепетированную фразу:
– Можно я поеду в Мериду[14], весь класс едет, с учителем латыни?
– Куда ты поедешь, ты же вон какая больная, на ногах не стоишь!
С тех пор она больше не пробовала ни о чем его просить, не пыталась уговорить или рассказать ему правду, как удавалось с мамой. Иногда даже, если папа спрашивает, почему ребенок безвылазно сидит в своей комнате, мама говорит, чтобы он оставил Каталину в покое – она делает уроки. Поскольку оценки Каталины за этот год (не считая физкультуры) согласуются с версией о прилежной учебе, папа верит. На самом деле она у себя в комнате пишет в тетрадках, но о чем – для мамы тоже остается тайной. Каталина открыла, что лучший способ почувствовать себя частью мира или отгородиться от него – это писать. Для нее это равнозначно тому, чтобы испытывать какие-то другие чувства, помимо страха или вины; когда она