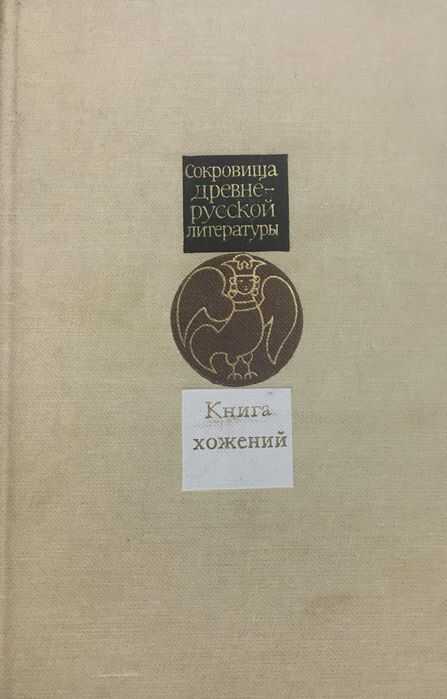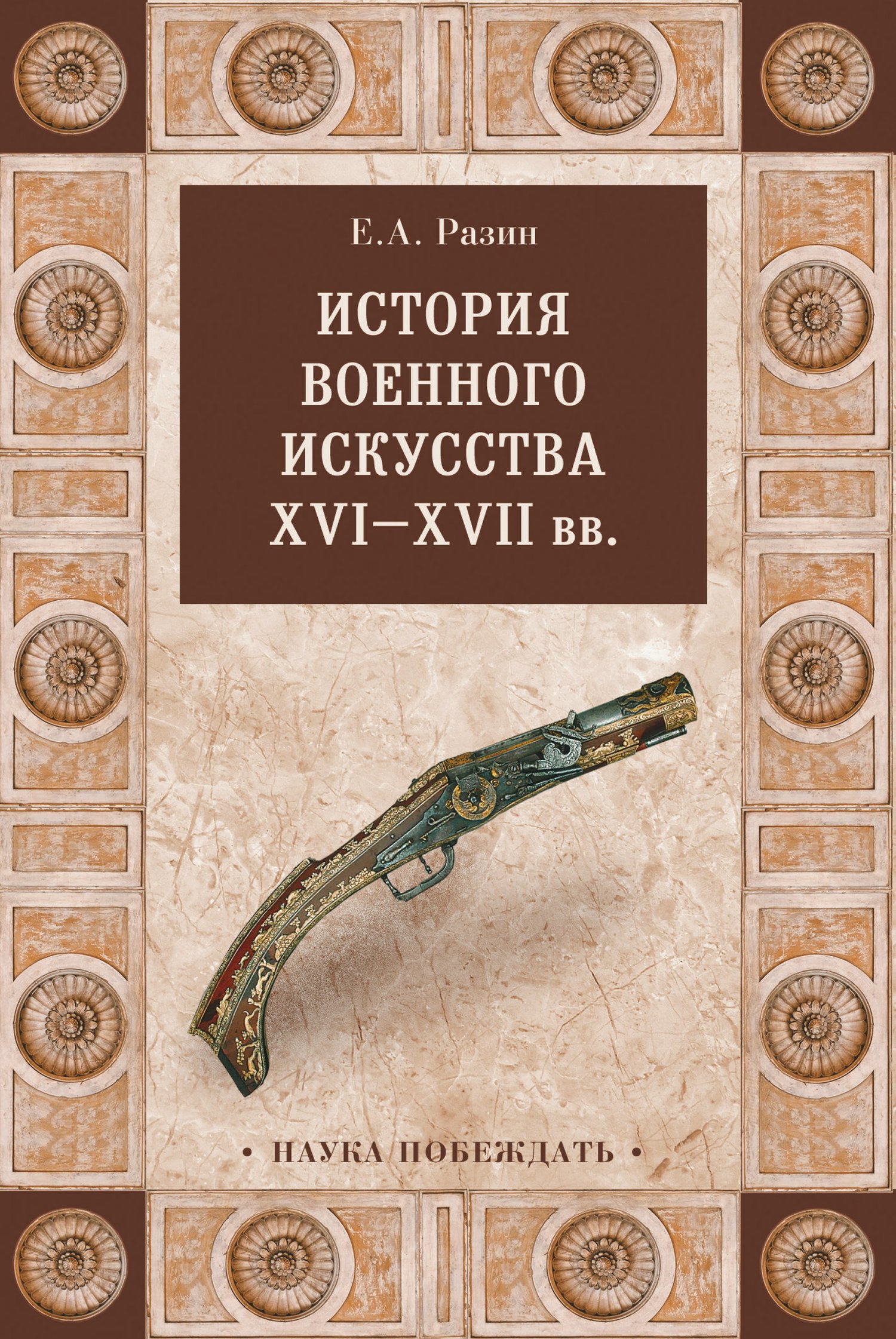«Не давайте хазарам, а давайте мне», – предложил Олег.
Радимичи, видимо, помятуя о поражениях древлян и северян, согласились стать данниками Киева. К этому шагу их могла подтолкнуть зависимость от Хазарского каганата, которой они, без сомнения, давно тяготились. Хотя меняли они, что называется, шило на мыло.
Так или иначе, но уже через шесть лет после захвата Киева Олег держал под своим контролем несколько новых славянских провинций, получал дань с «русского» севера и был главой мини-государства Киевская Русь, более походившего на большую великокняжескую вотчину. Согласитесь, неплохой результат для начинающего завоевателя!
Конечно, не все складывалось гладко в колониальной политике князя Олега. Случались у него и досадные осечки. Под 885 г. «Повесть» сухо рассказывает о войнах Олега с тиверцами и уличами225. Чем закончились для варяжского Киева походы на Южный Буг и в междуречье Днестра и Прута, источник не объясняет. Однако мы и без него знаем, что эти войны были русами проиграны. Оба славянских народа отстояли тогда свою независимость и сохраняли ее до 922 г., когда уже Олега не было в живых, но русы продолжали свои захваты.
Олег Вещий как человек и русский завоеватель
Несмотря на две эти неудачи, Олегу в целом практически удалось выполнить свой план и присоединить к Киеву многие славянские уезды.
Последняя большая война князя-воителя относится к 907 году. В этот раз его целью стал Константинополь. Как и для взятия Киева, Олег собрал против греков огромное войско. Он объединил вместе с русами полян, новгородцев, чудь, мерю и кривичей, своих новых подданных древлян, радимичей и северян, а также пригласил независимых пока вятичей, хорватов, дулебов и тиверцев.
Собрав войско, где только кораблей было 2 тысячи единиц, Олег напал на окрестности Царьграда. Сама по себе эта война не так интересна для нас, поскольку не имеет прямого отношения к русской экспансии Восточно-Европейской равнины. Но все же позвольте мне привести отрывок из летописи, описывающий методы, с помощью которых Олег и его русы вели свои войны. Вот он: «И вышел Олег на брег, и начал воевать, и много убийства сотворил около города грекам, и разбил многие палаты, и пожег церкви. Многие были захвачены в плен, другие иссечены, других мучили, иных расстреливали, многих утопили в море, и другого много зла сотворила русь грекам, какое творят ратные люди»226.
Этот пример заново подтверждает, что времена, о которых я повествую, были полны безграничной жестокости. Он также демонстрирует нам «кухню» русских войн против восточных славян, ведь нет никаких сомнений в том, что, покоряя восточноевропейских аборигенов, русы применяли те же самые античеловечные методы. Они не щадили греков, так почему же должны были пощадить славян?
Обычно мы никогда не думаем об этой стороне возникновения древнерусского государства, но правде стоит посмотреть в глаза: Киевская Русь складывалась в завоевательных муках, и если славяне подчинялись русским князьям, то делали это под принуждением и после жестоких репрессий.
В чем точно можно не сомневаться, так это в том, что зачинщики сопротивления карались без всякой пощады. Из эпизода с убийством древлянских князей мы знаем, что виновных казнили безжалостно.
Олег привел в Византию 80 тысяч голодных до битв и сражений мужей. Империи пришлось выдать им жалование, на что была потрачена баснословная сумма в 960 тысяч гривен227. Она сравнима с новгородской данью для Киева, собранной за 3200 лет вперед.
Эти гигантские средства, заплаченные Византией в обмен на мир, в основном остались в Киеве. Однако немалая их часть была переправлена Олегом в Чернигов, Переяславль, Полоцк, Ростов на озере Неро, Любеч и «прочаа городы», которыми управляли «велиции князи»228.
Упоминание «Повести» о существовании при Олеге других великих князей помимо киевского приоткрывает завесу над тайной формирования власти в Киевском государстве.
Олегу приходилось договариваться с «суверенными» группировками русов и платить им за помощь и услуги. Видимо, таким образом он сделал союзниками черниговских князей, которых не смог завоевать в 884 году. По этой же схеме Олег подмасливал всех глав независимых русских городов.
Что касается славянских колоний, то в них он, скорее всего, сажал наместниками своих бояр, укрепляя этим власть Киева. Не исключено, что некоторые бояре принадлежали к второстепенным княжеским родам, то есть не были князьями из Рюрикова Дома. Последнее очевидно, ведь единственным живым Рюриковичем в то время был юный князь Игорь.
Олег изо всех сил позиционировал Игоря в качестве законного правителя Русской земли. Быть может, он это делал из благодарности к Рюрику – своему другу и боевому товарищу. Или же он действительно был уверен в незыблемости прав Игоря на киевский трон.
Для молодой великокняжеской династии это был критический момент – вся ее легитимность держалась на благорасположении единственного родственника и слабости великокняжеских амбиций младших русских конунгов. К счастью для Игоря и его потомства, Олегу удалось сохранить баланс сил внутри русского общества и самому не скатиться на путь предательства и узурпации. По сути, он выступил предтечей и сотворцом власти семейства Рюриковичей. Пока князь Игорь не достиг совершеннолетия, Олег честно служил интересам наследника и оберегал его от вражды и возможных покушений.
Мы никогда точно не узнаем, почему Вещий Олег покинул Киев и не продолжил вместе со своим воспитанником строительство русской империи. Похоже, что размеренная жизнь придворного вельможи и должность канцлера не соответствовала темпераменту и масштабу этой личности.
Олег был одним из первых практиков создания «русского мира» и организаторов колониальной экспансией русов. Удивительно, что на памятнике тысячелетия России, поставленном в Новгороде, Олегу не нашлось места рядом с Рюриком. Без него история ранней русской экспансии была бы не столь впечатляющей.
X век. Древнерусская империя при князе Игоре Старом
С 912 г. великим киевским князем становится Игорь по прозвищу Старый. Ему в наследство достались те сложные задачи, с которыми умел справляться Олег. Чтобы укрепить свою власть, Игорю нужно было усмирять периферийных русских «князьков», держать в повиновении подчиненных славян и постоянно расширять границы киевской державы.
Русы были воителями, и престиж княжеской власти держался, в первую очередь, на победоносных захватнических войнах. По-настоящему великим считался тот князь, который успешно покорял туземцев и облагал их данью. Такого князя любила дружина, к нему с охотой шли служить северные наемники.
В первой трети X в. киевским русам уже подчинялись поляне, северяне, радимичи, древляне, кривичи, ильменские словене, ростовская меря, мурома и, возможно, другие финские племена. Из всех восточнославянских народов только вятичи сохраняли пока независимость от Киева и предпочитали платить дань хазарам.
Формально славяне считались «пактиотами» киевского князя