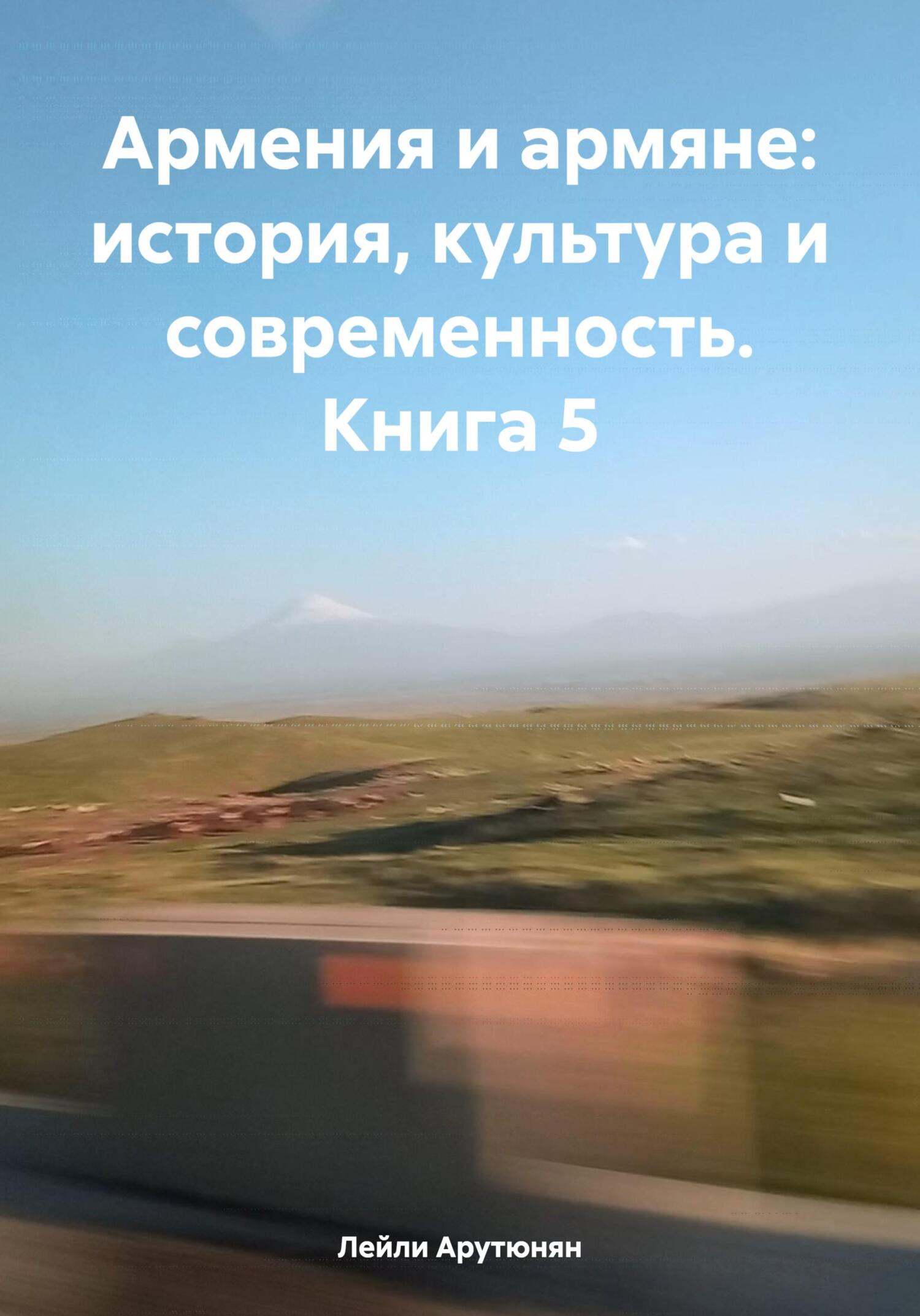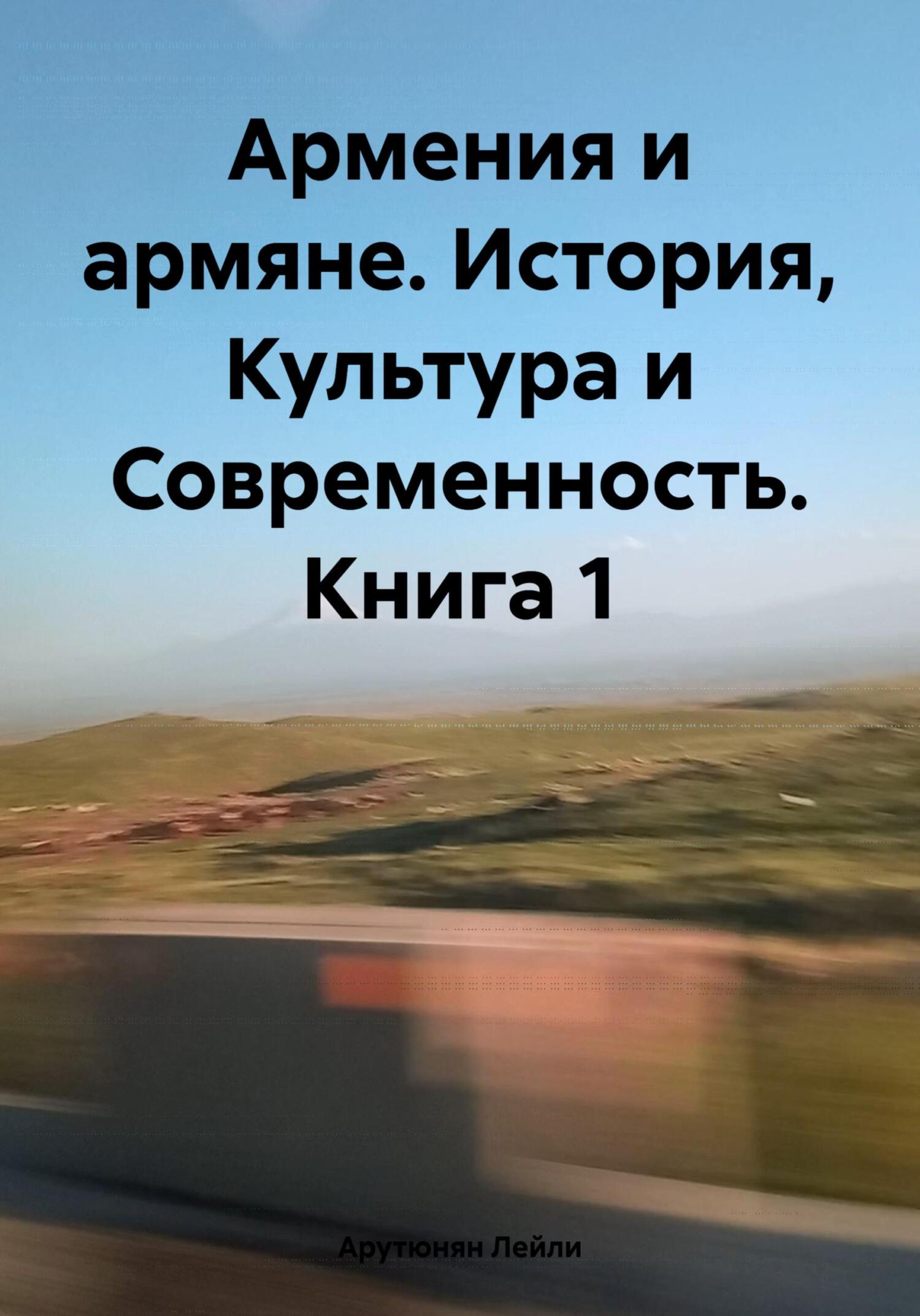там жили 72 армянские семьи. Этим семьям, включая семью его матери, удалось вернуться в родной город после 1915 г. Он сообщает, что в 1940-х гг. в Орду еще оставалось от 10 до 15 армянских семей. Церковь, на основании того что здание было сильно повреждено во время землетрясения в Эрзинджане, была снесена в 1939 г.:
[На самом деле] церковь вообще не была тронута землетрясением – от нее просто хотели избавиться; поэтому была составлена экспертиза, в которой утверждалось, что она была повреждена, и ее снесли. До того мой отец пел в церкви, и я тоже часто там бывал. <…> Был еще священник Дер-Кеворк [Саагян, упомянут в Армагане]. Я полагаю, что одновременно он работал кровельщиком. <…> В 1949 г. он тоже уехал – сначала в Стамбул, а затем в Аргентину, где позднее и умер[274].
Дживан Чакар в 1949 г. отправился из Орду в направлении Стамбула; потом он переселился в Канаду, где и умер.
В 1947 г. государство решило продать три армянских церкви, к которым относилось до 300 земельных участков[275]. Речь шла об армянской церкви в Таласе, округ Тюраб (Türab), с участком, на котором находилась школа, армянская церковь в Мунджусуне (Гюнешли) (Muncusun (Güneşli)), как и армянская церковь на Лицейской площади (Lise Meydam), вместе с прилегающей школой[276]. Согласно сообщению в «Мармаре», 24 апреля 1947 г. местная газета в Кайсери объявила, что армянские церкви будут выставлены на публичные торги через две недели, то есть 7 мая[277]. После этой новости главный редактор Marmara обратился к своему корреспонденту в Анкаре Мекки Сейиду Энесу (Mekki Seyid Enes) и попросил его сообщить об этих незаконных махинациях в Канцелярию премьер-министра. Согласно сообщению, заместитель премьер-министра Мюмтаз Окмен (Mümtaz Ökmen) вмешался и остановил проведение аукциона. 6 мая министр внутренних дел Шюкрю Сёкменсюэр (Şükrü Sökmensüer) заявил, что назначение аукциона было ошибкой[278].
Церковь в Сивасе больше не могла использоваться прихожанами, так как была занята военными; она была взорвана динамитом 24 июня 1949 г., согласно свидетельству Артина Коркора (Artin Korkor), опубликованному в «Агосе». Новость об этом смогли опубликовать в «Мармаре» только девять месяцев спустя, и то только потому, что об этом сообщила местная газета «Юлке» (Ülke)[279]. В этом отчете сообщалось, что «прилегающая территория от взрыва динамита не пострадала». Официальной причиной сноса здания стало его плохое состояние[280]. По данным Marmara, за пять-шесть месяцев до этого прихожане в Сивасе обратились в Стамбульский патриархат с просьбой завершить ремонт и назначить в Сивасе постоянного священника. Однако неясно, как такие ремонты могли быть возможны, если церковь использовалась в военных целях. Кроме того, церковь должна была быть выставлена на аукцион 28 марта[281]. Согласно Ülke, технический комитет сообщил об этом в администрацию губернатора Сиваса, и компетентный орган начал расследование; она решила принять «необходимые меры для предотвращения возможного ущерба». Это сообщение показывает, что ответственность за разрушение несут разные стороны. Однако заголовок в «Мармаре» возлагал ответственность за разорение на заместителя Армянского патриарха, а не на государство или его институты: «Армянская церковь в Сивасе обвалилась из-за некомпетентности архиепископа Арсланяна (Arslanyan)»[282]. Мы видим, что термин «разрушение» даже не используется. Газета возложила ответственность за разрушение церкви на армянскую общину или армянское руководство. Однако в то же время Ülke упомянул губернатора, власти и военных, другими словами: все местные официальные власти. Поэтому ясно, что наиболее важным вопросом было объяснение инцидента, а не фактическое разрушение. Судя по всему, это дело было частью антиарсланянской кампании «Мармары», о которой я подробно расскажу в четвертой главе. Заголовок газеты «Мармара» от 20 марта 1950 г. гласил: «Проблема церкви в Сивасе решена»[283]. Можно задаться вопросом: что это было за решение, когда церковь уже была разрушена? Согласно статье, аукцион на земли и церковные руины был отложен после того, как Marmara сообщила о ее разрушении[284]. Газета увидела в этом выход. Однако другое сообщение, появившееся 26 марта, показало, что проблема еще не решена. Согласно этой статье, губернатор Сиваса заявил, что разрушенная церковь будет рассматриваться как заброшенная собственность, и коммуна не может доказать, что она принадлежит им[285]. Как бы абсурдно это ни звучало – то, что армянская газета сообщила о разрушении церкви таким образом, а именно, что она была бы предметом аукциона или что прихожане не смогли доказать право собственности на нее, – все эти элементы являются составными частями постгеноцидной привычки к отрицанию, благодаря которой абсурдность истории становится нормой. Как я покажу в этом исследовании позже, армянские газеты отчасти сами стали частью этого габитуса отрицания, творчески освещая вопросы, которые иначе не могли бы быть подняты публично.
Я провела устные интервью с армянином по имени К. А., родившимся в 1938 г. в Сивасе, где он жил, пока в 1960 г. не уехал рабочим в Германию. К. А. рассказал, что был очевидцем взрыва церкви. Он шел по улице, когда на него от мощного взрыва упал прохожий. Церковь уже долгое время не использовалась общиной; по крайней мере, он никогда в ней не был, так как, сколько он себя помнил, она была занята военными[286].
Та же участь постигла и армянскую церковь в Токате (Tokat). По сообщению Хагопа Арсланяна, в 1940-х гг. церковь была разрушена. Без священника и без церкви прихожане собирались, скорее тайным образом, в доме Арсланяна, в который время от времени летели камни, если литургию было слышно на улице. Государственная политика разрушения церквей подготовила почву для расистских нападений на жилые дома. Другой же источник из Диярбакыра позволяет предположить, что были нападения и на церкви, особенно когда в них находились прихожане. Гарабет Демирджиоглу (Garabet Demircioglu), армянин из Диярбакыра, поделился своими воспоминаниями о второй половине 1960-х гг.:
Мы регулярно ходили в церковь, а именно в церковь «Сурп Гирагос» (Surp Giragos). Наши мамы крепко держали нас за руки на протяжении всего пути. Пока мы были в церкви, месса всегда сопровождалась одними и теми же звуками – камнями, летевшими в дверь. <…> Наконец деревянная дверь однажды не выдержала и треснула. Ее заменили на другую, из железа[287].
Уничтожение армянского наследия в провинциях продолжалось. В 1951 г. был также взорван и по большей части разрушен монастырь на острове Ахтамар (Akhtamar). Так случилось, что романист Яшар Кемаль (Yaşar Kemal) – в ранние свои годы журналист – стал отчасти свидетелем разрушения и через своего главного редактора смог успешно вмешаться благодаря связям своего главного