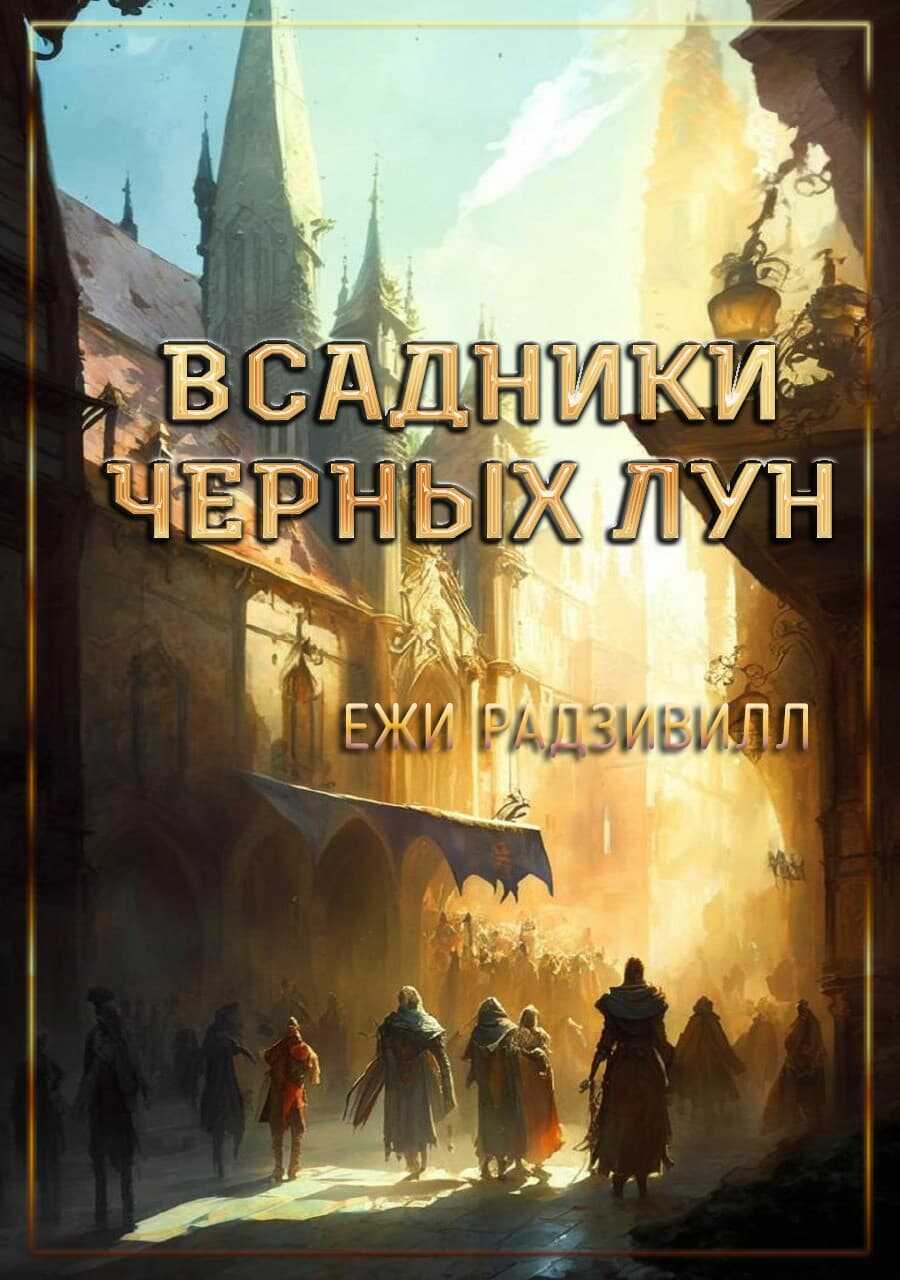шесть лет назад умерла мама. Скончалась ночью во сне. Ей было 94 года.
Память о ней до боли зримо возвращает то время, когда – как сказал поэт – «была мама молодая и отец живой». Возвращает и собственное детство.
Вспоминается и та земля, на которой родились все мы: и отец, и мама, и деды, и прадеды наши, – Донские степи, благодатный чернозёмный край, древняя земля.
Земля многострадальная. Издревле с востока на запад прокатывались через неё волны кочевников: проходили гунны, печенеги, половцы, татаро-монголы, оставляя на подходе к Дону названия рекам (его притокам) – названия, сохранившиеся и доныне – такие, например: Битюг, Еманча, Карачан, Курлак, Тойда, Токай, Хава, Чигла, Эртиль. Русские селились в Подонье с начала XVI-го века, первые казачьи городки появились в 1521 году. Понадобилось около ста лет, чтобы тюркские и славянские названия смешались на равных началах. И в течение не одного столетия край подвергался опустошительным набегам крымских татар.
По мере заселения края происходило смешение народностей. Шолохов – как зоркий, внимательный бытописатель – не мог не обратить внимания на зримые результаты этого процесса. Центральный персонаж его знаменитого романа Григорий Мелехов – внук пленённой турчанки, унаследовавший черты её народа. Передал писатель впечатления представителя британской миссии, участвовавшего в «инспекционной поездке по очищенной от большевиков земле Войска Донского» (1919):
«С истинно британским высокомерием смотрел он на разнохарактерные смуглые лица этих воинственных сынов степей, поражаясь тому расовому смешению, котрое всегда бросается в глаза при взгляде на казачью толпу; рядом с белокурым казаком-славянином стоял типичный монгол, а по соседству с ним чёрный, как вороново крыло, молодой казак, с рукою на грязной перевязи, вполголоса беседовал с седым библейским патриархом – и можно было биться об заклад, что в жилах этого патриарха, опирающегося на посох, одетого в старомодный казачий чекмень, течёт чистейшая кровь кавказских горцев.»
ХХ век принёс новое лихолетье: трагическое противостояние в гражданской войне. По этой земле – в междуречье: меж притоками Медведицей, Хопром и средним течением Дона – обречённо метался шолоховский казак Мелехов. По этой земле гремели копыта коней корпусов Шкуро и Мамонтова. И на этой земле случилось восстание крестьянского народа, возмущённого продразвёрсткой. В моём родном селе стоит скромный памятник двадцати трём селянам, казнённым (порубленным шашками) антоновцами.
На этой земле происходило жесточайшее подавление мятежа регулярным войском Красной армии (с броневиками против плохо вооруженных восставших) под командованием Тухачевского, в приказах которого, обращённых к мирному населению, содержались вещи чудовищные – подобные тем, что применяли немцы в период Отечественной. Но те-то были всё же чужие – враги – а тут был свой палач, домашний.
Один из примеров:
«1. Граждан, отказывающихся назвать своё имя, расстреливать на месте без суда.»
В других пунктах призыв осуществлять «изъятие заложников» и в каждом непременный приказ расстреливать, расстреливать, расстреливать… А ещё и вот такое:
«Леса, где прячутся бандиты (!), очистить ядовитыми газами, точно рассчитывать, чтобы облако удушливых газов распространялось полностью по всему лесу, уничтожая всё, что в нём пряталось.» Словом, извести всех, как тараканов.
Ничего не скажешь, хороши же были методы войны с собственным народом! Войны, в ходе которой были уничтожены тысячи и среди безвинно казнённых попадались люди мирные – лишь потому, что они стали заложниками.
Выходит, моему деду, работавшему тогда лесником, повезло, что его лесного участка не коснулись газы. Повезло и в другой раз: не расстреляли зелёные вместе с пятилетней дочерью – моей матерью. Значит повезло и мне через годы появиться на свет.
Вот так припомнишь минувшие события и с печалью пожалеешь о чём-то несбывшемся.
В июле 1968 года отправил дед мне своё письмо (никто не знал, что оно последнее). На тетрадном, в линеечку, листочке – в этаком старом стиле, бытовавшем в начале века, пусть даже и с ошибками, без точек и запятых – оно было написано ясным каллиграфическим почерком. Старый казак с юмором писал о себе, рождённом в прошлом веке: мол, и не заметил, как прожил жизнь немалую, в которой «встречались разные невзгоды и голодовки да разные войны и всё пережили», а теперь вот стал стариком и хочется свидеться. Приглашал меня с женой приехать в Новохопёрск – и желательно скорее, «а то мои годы преклонные и вы меня больше не увидите».
Письмо, полученное женой и пересланное по международной почте, нашло меня в Тихоокеанском рейсе. А когда я вернулся домой – его автор уже лежал в могиле… Участник Первой Мировой, получивший тяжёлое ранение и, будучи инвалидом, державший семью и вырастивший четырёх детей, – он унёс с собой целый мир… И хоть встрече нашей помешала чистая житейская случайность, но всё равно гложет меня чувство вины: почему не нашёл время посетить деда раньше?
16.11
Коварная штука – власть над людьми. Она деформирует сознание человека, обладающего ею. Её пагубному влиянию подчиняются и разного рода чиновники, и телеведущие, и режиссёры театра и кино.
Весьма отчётливо этот феномен проявляется на самом верху, среди политиков, когда она, власть, исподволь внушает жертве ощущение правильности своих действий – некое чувство своей непогрешимости и безусловной преданности тех, кто находится в подчинении.
Тому есть примеры.
Наиболее яркий из них – Хрущёв, столь слепо уверовавший в то, что народ его обожает (и в чём неустанно убеждали его лукавые льстецы из окружения и журналисты), что не принял всерьёз предупреждение о заговоре против него даже от собственного сына.
Это Керенский (тот, кого, было дело, даже на руках носили), решивший, что одних лишь сладких речений о воссиявшей свободе будет достаточно для того, чтобы жизнь огромной страны как-то сама собой образовалась, – а в итоге при малейшей угрозе сбежавший, обидевшись на всех, как капризный ребёнок.
Это Троцкий, крепко убеждённый в своей несокрушимой популярности и уверенный, что никакие происки ничтожного грузина ему не опасны (вследствие чего в конце концов заплатил за это жизнью).
17.11
Немыслимо меняется весь наш мир. Добро бы к лучшему. Ан нет, приметы нашей современной жизни говорят об обратном.
Достоевский предупреждал: если вдруг наступит время, когда будет «всё дозволено», – мир не спасётся.
Теперь оно, это время, наступило.
Несчастный телезритель, нечаянно включивший телевизор, вздрогнет, услыхав, как телеведущий Малахов в каком-то истерическом вдохновении орёт: «А теперь послушаем исповедь…» Кого бы вы думали? Учёного, сделавшего открытие? Человека, совершившего отважный поступок? Наконец следователя, раскрывшего серьёзное преступление?
Держите карман шире! Нам предлагается исповедь… ангорского маньяка!
Вот вы тут погрязли в делах домашних, подустали, вам хочется отвлечься, расслабиться, посмотреть что-то интересное… А вам