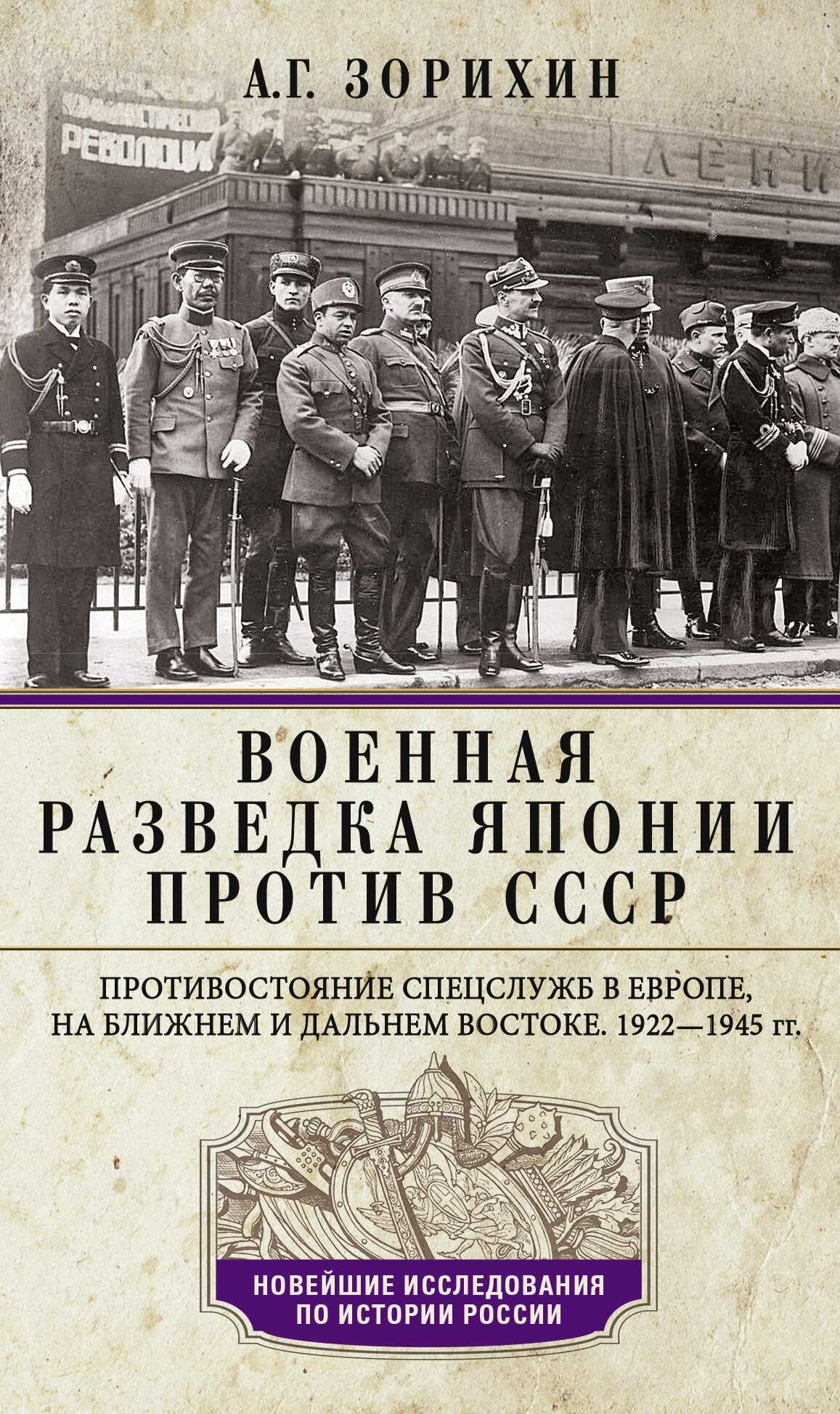называемая революция Рамадана, в результате которой была ликвидирована правящая военная верхушка во главе с генералом Касемом. К власти приходит партия БААС, президентом становится полковник Абдель-Салам Ареф. Лидеры переворота и его сторонники рассматривали свержение Касема под традиционным для Ближнего Востока углом зрения «корректирующий путь революции». Новое политическое руководство Ирака исповедует баасистскую версию арабского социализма, что вскоре приводит к заметному охлаждению отношений с СССР.
Военный переворот в Ираке произошел при содействии Центрального разведывательного управления, которое использовало внутривластное напряжение и собственную резидентуру в верхушке Ирака для поддержки сил баасистов и осуществление прихода в власти гораздо более умеренных, чем генерал Касем, политиков. Как вспоминал спустя 50 лет после событий февраля 1963 г. глава Департамента Ближнего Востока ЦРУ Джеймс Критчфилд, в период с 1960 по 1968 г. курировавший работу американской разведки в Ираке, «мы не организовали этот переворот… <…> хотя мы его очень хорошо прикрывали»[237].
Падение режима генерала Касема лишало Москву важного радикального союзника в игре против США в регионе. В конфиденциальных беседах Хрущёв не скрывал своего разочарования по поводу событий в Ираке. В своей фундаментальной монографии А.А. Фурсенко и Т. Нафтали приводят детали беседы Хрущёва с египетским маршалом Хакимом Амером: «Баасисты позаимствовали свои методы у Гитлера, – позже говорил Хрущёв членам посетившей СССР военной делегации из Египта. – В Ираке они преследуют не только коммунистов и других прогрессивных деятелей, – добавил он, – но даже арабских националистов и защитников мира». Вспоминая, чем руководствовались в СССР, поддерживая свергнутый режим Касема, Хрущёв сокрушался: «Мы надеялись, что революция будет развиваться в прогрессивном направлении»[238].
Советская и иракская стороны продолжили сотрудничество, но события февраля в Ираке стали новым аргументом в пользу еще большего укрепления отношений с насеровским Египтом как ключевым полюсом притяжения советской внешней политики в регионе Ближнего Востока.
К середине 1960-х гг. Москва окончательно сформулировала в отношении Насера прагматический подход, воспринимая ОАР не только как главного союзника СССР в регионе, но и как проводника советской внешней политики – вопреки очевидным идеологическим различиям в трактовке доктрины коммунизма и понимании ключевых установок арабского национализма. Это хорошо осознавала советская правящая верхушка. «У нас нет причин быть противниками арабского единства», – подчеркивал Хрущёв на заседании Политбюро 26 мая 1964 г.[239]
На фоне нестабильности в Ираке и Сирии, которые ненадолго стали альтернативными центрами притяжения политики СССР на Ближнем Востоке, Москва была крайне заинтересована в упрочении своих отношений с Каиром не только в военном, но и экономическом измерении.
Важнейшие решения советского руководства были приняты в ходе многодневного визита в ОАР первого секретаря ЦК КПСС Хрущёва (9–25 мая 1964 г.)[240]. В частности, египетский долг СССР по личному решению Хрущёва был сокращен на 50 % (2,5 млрд долларов США). «Дружба кредитами не покупается», – резюмировал в своем докладе перед членами Политбюро Первый секретарь[241].
Официальная часть визита была посвящена приему работ первого этапа строительства Асуанской ГЭС, реализацией проекта которой занимались советские инженеры и строители Технопромэкспорта. Церемония, состоявшаяся 15 мая 1964 г., де-факто стала неформальным саммитом лидеров просоветского арабского лагеря – помимо президента ОАР Насера присутствовали также президент Йемена Ас-Саляль, президент Ирака Ареф, президент Алжира Ахмед бен Белла.
Как вспоминал позднее в своих мемуарах Хрущёв, саммит лидеров обозначил очевидные линии противоречий в понимании идеологических аспектов государственного управления, в понимании социалистической доктрины и репрессивных действий арабских лидеров в адрес национальных коммунистических партий Египта и Ирака[242].
Тем не менее майский визит Хрущёва в ОАР фактически стал венцом внешнеполитического курса, который лидеры СССР и Египет совместно выстраивали, начиная с событий Суэцкого кризиса 1956 г.
Кульминацией официальной программы становится вручение Хрущёвым Насеру ордена Ленина и присуждение египетскому лидеру звания Героя Советского Союза. Египетская сторона награждает советского лидера высшей государственной наградой ОАР – орденом Нила.
Выступая на церемонии, лидер ОАР Насер заявил: «Асуанская плотина – это памятник нашей победы над всеми врагами, над всеми трудностями. Империализм сделал все, чтобы не допустить возведения Асуанской плотины, имеющей неизмеримое практическое и моральное значение для нашего народа. Однако египетский народ доказал, что его воля сильнее всех врагов <…> Советский Союз вместе с нами оказал сопротивление интервентам. Не ограничиваясь этим, он протянул нам руку помощи в деле строительства первой и второй очереди высотной плотины, предоставив нам займы и направив к нам своих специалистов»[243]. Обращаясь к советскому лидеру Хрущёву, Насер заявил: «Вы перебросили мост дружбы с народами Арабского Востока и Африки. Вы утвердили идею солидарности между подлинными революциями, совершенными во имя лучшей жизни для народных масс».
В ответном слове Хрущёв отметил, что «на Западе любят рекламировать свою экономическую помощь развивающимся странам чуть ли не как главное доказательство изменения хищнической природы империализма и колониализма. Однако если внимательно приглядеться, то станет явно, что эта помощь – лишь новый способ, пользуясь которым империалисты продолжают выкачивать из этих стран громадные богатства»[244].
Многодневный визит советского лидера в ОАР, очевидно, был призван продемонстрировать США и проамериканским союзникам фундаментальный характер интересов СССР в регионе и готовность Москвы осуществлять силовой сценарий защиты собственных интересов, а также намерение модерировать процесс в контексте тлеющего арабо-израильского конфликта. Эта поездка в известной степени стала пиком активной наступательной дипломатии Хрущёва на Ближнем Востоке и публично зафиксировала важнейшие для Советского Союза достижения в продвижении внешнеполитических интересов в одном из ключевых сегментов биполярного мира. В течение 1956–1964 гг. СССР смог добиться бесспорных успехов в формировании фундамента своего присутствия в регионе, создав пояс из союзных режимов в странах арабского национализма – Египте, Сирии, Ираке и Йемене. Гибкий внешнеполитический курс Москвы в отношении новых идеологических явлений региона Ближнего Востока вкупе с мощным антиколониальным и антизападным трендом в элитах региона позволил СССР на протяжении многих лет концептуально переигрывать своего ключевого геополитического противника – Соединенные Штаты – в Ближневосточном регионе в конце 1950-х – середине 1960-х гг.
Впрочем, по ряду фундаментальных причин ситуация в регионе Ближнего Востока была столь турбулентной и взрывоопасной, что не позволяла ни одной из сверхдержав говорить о необратимом стратегическом доминировании. Биполярная логика конкурентного взаимодействия сверхдержав подразумевала постоянное оказание давления на своего геополитического конкурента и сети его proxy в регионе, что ярко продемонстрировали события второй половины – конца 1960-х гг.
Заметное укрепление позиций СССР в регионе к середине 1960-х гг. заставило Соединенные Штаты систематизировать свою внешнеполитическую стратегию на Ближнем Востоке и зоне Аравийского полуострова, а также привело к консолидации проамериканского лагеря. Комбинирование элементов преемственности от администрации Эйзенхауэра к администрации Кеннеди вкупе с новаторскими идеями демократов в период 1961–1963 гг. позволило Вашингтону протестировать жизнеспособность своих тактических и стратегических подходов к исключительно турбулентному региону Ближнего Востока. По