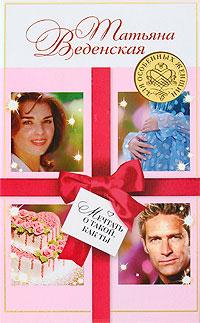Иду между черных приземистых елок,Там ветер на вереск похож,И светится месяца тусклый осколок,Как финский зазубренный нож…
Ишь как чешет. Как по писаному, без паузы на вдох-выдох. Даже выходить на балкон неловко, вдруг испугается, поперхнется. Ладно, пусть дальше чешет…
Юля села на кровати, спустила ноги на пол, нащупала голыми ступнями тапочки. Потом вздохнула, улыбнулась грустно. Нет, а чего она все время над бедной женщиной подсмеивается? Сама-то она может вот так, чтобы встать с ней рядом, да подхватить, да отправить в утреннее небо что-нибудь эдакое… Ну вот что, что, например? Школьное, когда-то к уроку с раздражением пополам выученное «буря мглою небо кроет»? Или «я вас любил, чего же боле»? Как же мы порой любим скрывать за иронией, за неприятием в другом человеке то, чего в нас самих нет… Интересно, чьи стихи она с таким упоением наизусть шпарит? О, вроде бы замолчала. Надо пойти, спросить.
– Доброе утро… – Юля шагнула на балкон.
– Доброе… – вздрогнув, повернулась к ней Люба, испуганно прикрыв рот ладошкой. – Я вас опять разбудила, да?
– Ну и хорошо, что разбудили. Тем более таким оригинальным способом. А утро-то какое, господи… Благодать…
Утро и впрямь было фантастическое, как на картинах импрессионистов. Неяркое солнце поднялось над верхушками деревьев, еще не высветив буйства увядания, и краски были расплывчато бежевыми, то спокойно пасторальными, то вдруг разбегались крупными мазками под ветром. Да еще добавить в картину клочья тумана над прудом… Да одинокую лодчонку с фигуркой рыбака, согбенного, как его удочка…
– Да, утро чудесное. В такое утро выходишь, и жить хочется дальше, вот меня и понесло… Я, наверное, увлеклась, да? Со стихами…
– Да нет, мне понравилось. Вы очень эмоционально декламировали, Люба. А чьи стихи-то? Не ваши, надеюсь?
– Что вы… – в священном ужасе округлила глаза Люба. – Что вы, это же Ахматова! Вы любите Ахматову, Юля? Я вот, например, больше Цветаеву люблю. Не знаю почему. Не могу объяснить. А вам кто больше предпочтителен?
– Не знаю… Я не разбираюсь в поэзии. Мне что Цветаева, что Ахматова, все одно.
– Да бог с вами! Не наговаривайте на себя! Как же так можно? Они же такие разные… Или вы опять шутите? Слегка подсмеиваетесь надо мной, да?
– Нет, не шучу. Нисколько.
– Да ну, не может быть… Чтобы Ахматову от Цветаевой не отличить? Да ну…
Люба смотрела с неподдельным ужасом, будто ждала, что Юля рассмеется и опровергнет саму себя. А Юля опять запсиховала, не в силах унять внутреннее раздражение. Да что эта Люба к ней привязалась? Будто других забот в жизни женщины нет, как Ахматову от Цветаевой отличить… И ответила довольно сухо, не сумев скрыть досадливой интонации:
– Да некогда мне, знаете ли, поэзией увлекаться. И сейчас некогда, и раньше тоже… Слишком забот много было. Работала, как вол, сына растила. Одна, без мужского плеча…
– А у вас сын, да?
– Да. Я вам говорила вчера.
– Ой, не помню, простите… А я вчера напилась, наверное?