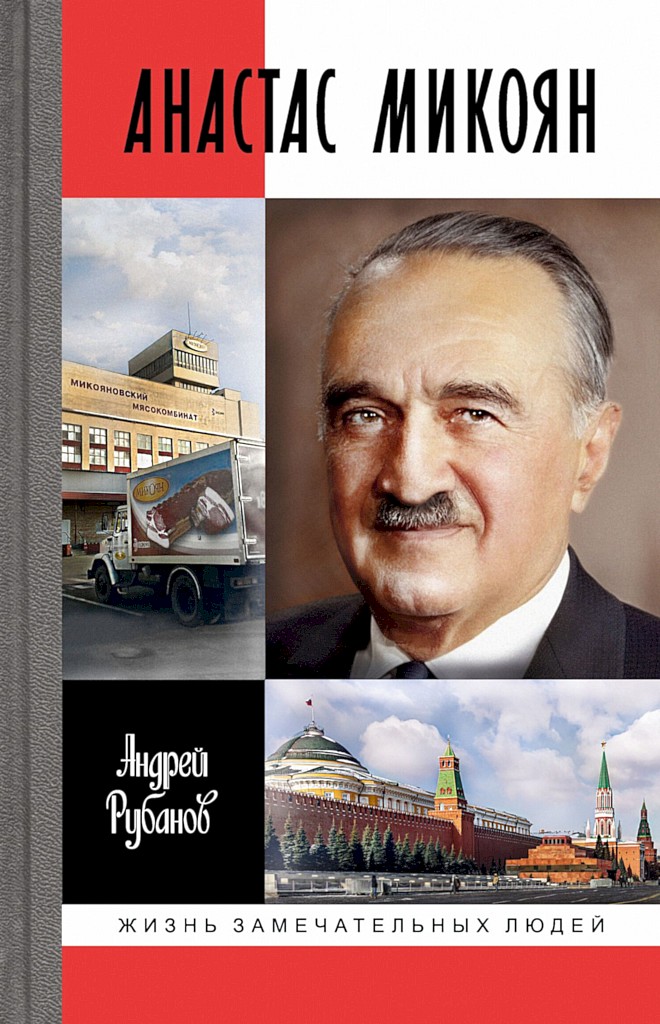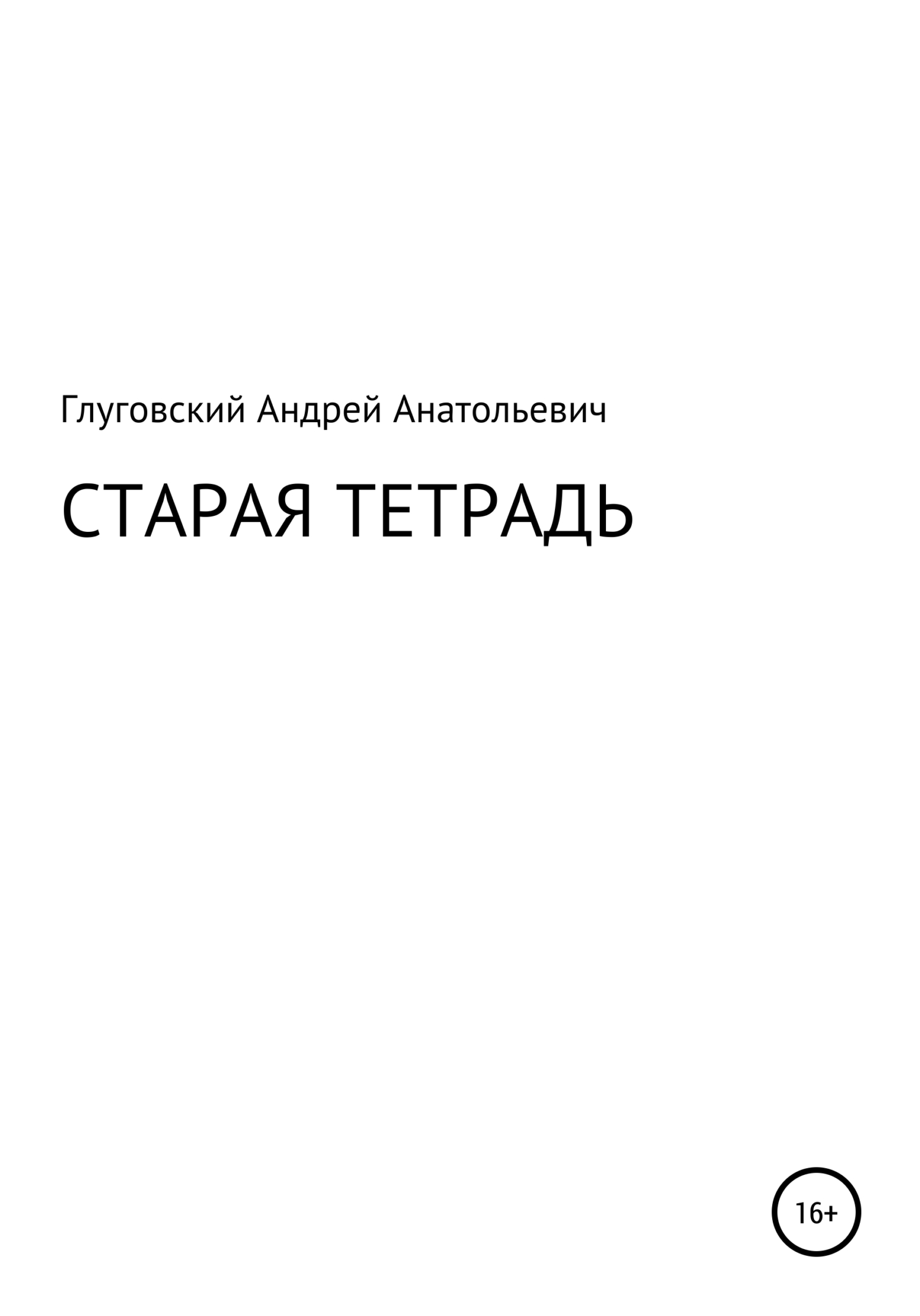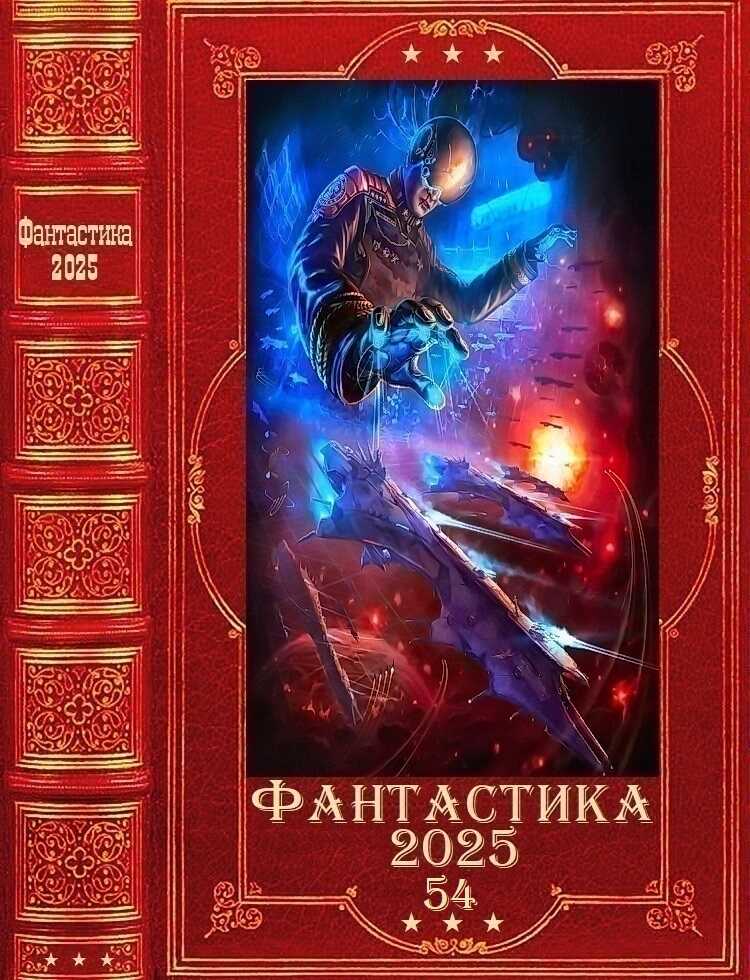изнурительной борьбы за жизнь.
Кончилось долготерпение даже у верной подруги Аввакума, жены Анастасии Марковны. На льду, на бешеном ветру, меж ними состоялся диалог, навсегда вошедший в историю: «Доколе муки сии, протопоп? – До самыя до смерти. – Добро, Петрович, ино ещё побредём».
Но они – дошли.
Вряд ли волокли с собой назад корабли; история об этом умалчивает. Поклажу везли на нартах и вьюками на лошадях, Аввакуму и его семье выделили отдельную лошадь.
Тяжелейший и трагический путь занял всю весну – до вскрытия рек. По льду они пешком вернулись из Шилки в Ингоду, затем перевалили Яблоновый хребет и спустились к Иргенскому острогу. Здесь – осели ещё на полтора года.
На этом поход отряда воеводы Афанасия Пашкова – в том виде, в каком он замышлялся, – закончился.
Пошли прахом все амбициозные планы: подчинение Китая, налаживание пути по Амуру на Тихий океан… Путь на восток оказался слишком тяжёлым, извилистым и затратным. По крайней мере, таким он был в середине ХVII века.
В мае 1662 года в Иргенский острог прибыл сменщик Пашкова, боярский сын Ларион Толбузин. Он сместил воеводу Пашкова, заступил на его должность, принял командование остатками отряда и тремя острогами: Иргенским, Нерчинским, Телембинским.
Во всех трёх крепостях к моменту приезда Толбузина находились под ружьём 75 казаков. Прочие – около 400 человек – погибли от голода, болезней либо в стычках с местным населением; либо же были казнены самим воеводой Пашковым.
Потом, уже в Москве, было учинено расследование обстоятельств похода. Свидетель – Аввакум – подал царю челобитную с описанием злодеяний Пашкова, и утверждал, что погибших – до пяти сотен, то есть был потерян практически весь отряд. Ушли пятьсот – вернулись десятка три. Собственно, сам Пашков с семьёй, Аввакум с семьёй, и ещё, может быть, две дюжины раненых и больных.
5. Легенда об иргенских мучениках
1
Тогда же, в том же остроге, около 1661 года родилась легенда об иргенских мучениках. Она дошла до нас в виде апокрифа, существующего самостоятельно от «Жития» Аввакума.
Четверо казаков – Симеон, Киприан, Иосиф и Василий – совершили некий проступок, и воевода Пашков в наказание велел им заготовить «сорок бочек карасёвых язычков», то есть дал заведомо невыполнимое задание. Казаки приказ не выполнили – и Пашков их казнил.
Похоронили их не в гробах, а в двух дубовых колодах, по два мертвеца в каждую. Эти колоды впоследствии были найдены. На внутренней стороне одной из колод остался отпечаток лицевых костей покойника. Сохранились и другие останки. Церковь объявила об обретении нетленных мощей. Четверых казаков канонизировали как мучеников, то есть страдальцев за веру.
Существует отдельный святой образ, икона: «Симеон, Киприан, Иосиф, Василий и иже с ними, мученики Иргенские, Сибирские».
Фраза «…и иже с ними» означает, что, вероятно, были и другие, казнённые Пашковым в Иргенском остроге.
Есть также версия, что все четверо казнённых были паствой Аввакума, приверженцами старой веры.
Неясно, какой веры – старой или новой – придерживался сам воевода Пашков. Скорее всего, старой; перенять новую ему было просто некогда и негде. Вероятно, вся казачья ватага Пашкова в 400 сабель придерживалась старой веры. Аввакум отпускал грехи и отпевал умерших и убитых так, как считал нужным. Рядовые воины про Бога мало думали – все их усилия были направлены на физическое выживание. Они не были богомольцами, конечно.
Передав командование Лариону Толбузину, отставленный воевода Пашков собрал поезд, детей и ближних присных, взял корабли и уехал домой, в Енисейск.
Тот же боярский сын Толбузин привёз и распоряжение насчёт Аввакума: ему царь велел вернуться в Москву.
Но Пашков, когда уезжал из Иргенского острога, Аввакума с собой не взял.
Аввакум уехал только через месяц после Пашкова. Отдельным отрядом вышли. Аввакум пишет, что он ещё вёз с собой больных и раненых.
Пашков и Аввакум оба поехали в Москву – но независимо друг от друга; у обоих путь занял два года.
После отъезда Пашкова и Аввакума с их семьями в Иргенском остроге остался отряд из двух десятков ветеранов похода – тех, кто прошёл весь путь от Енисейска до Нерчинска и обратно, длиной в восемь лет.
Эти воины решили увековечить память погибших – и они построили на территории острога часовню; она простояла не менее 80 лет, упоминания о ней известны с середины XVIII века. Часовня была поставлена в память всех погибших в походе Пашкова; всех, кто шёл вперёд, имея на груди нательный крест.
Потом, когда Пашков приехал в Москву и отчитался о своём походе в Сибирском приказе, – дьяки приказа немедленно выписали продовольственную и военную помощь казакам Иргенского и Нерчинского острогов. Но когда эта помощь прибыла и насколько она велика была – сказать трудно.
Ларион Толбузин служил царю верой и правдой в забайкальских крепостях. Его сын, Алексей Ларионович, позже стал комендантом крепости Албазин, главного русского опорного пункта на Амуре, и был сражён пушечным ядром на стене крепости в сентябре 1686 года, во время обороны от китайских войск. Это случилось уже после смерти Аввакума, в период правления царевны Софьи, заключившей первый в истории договор между Россией и Китаем – Нерчинский договор.
Царевна Софья, ученица белорусского мудреца Симеона Полоцкого, неплохо разбиралась во внешней политике, и вдобавок имела надёжного советника, князя Василия Голицына; и князь, и Софья были убеждёнными западниками. Софья решила обезопасить границы державы со всех сторон света: ратифицировала мирный договор со Швецией, заключила мирный договор с Польшей (и при этом выкупила город Киев за 146 тысяч рублей); на юге, после двух тяжёлых и неудачных военных походов, добилась мира с крымско-татарским ханством; а на востоке – впервые в истории заключила мирный договор с императором Китая. Нерчинский договор не был особенно выгодным – Россия уступила все земли к юго-востоку от Амура, в том числе и часть Даурии (Забайкальского края); пришлось сдать и крепость Албазин, которая к тому времени подвергалась упорным атакам китайцев. Осада крепости Албазин изучена историками, но в литературе пока не отражена; а между тем, это был первый случай войны между Россией и Китаем.
Забайкальский край, или Даурия, позднее ещё раз отзовётся эхом в судьбе Аввакума, уже посмертной. В середине XVIII века в Даурию начнут переселять белорусских староверов – и они создадут свои колонии. Их уникальный этнокультурный извод получит название «семейские». Эти люди до сих пор сохранили свой отдельный уклад, и Аввакума почитают – как святого.
2
С походом Афанасия Пашкова до сих пор не всё ясно. Фундаментального труда никто не создал. Причины этому вот какие.
В СССР, с его идеологией научного атеизма, сочинения Аввакума профессионально изучал лишь один человек, Владимир Малышев, и имя Аввакума в общем и целом