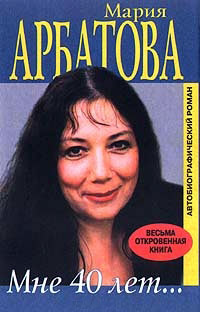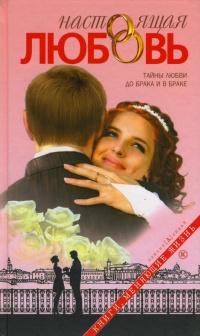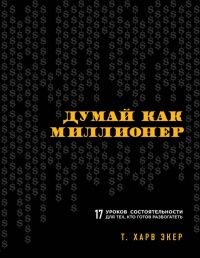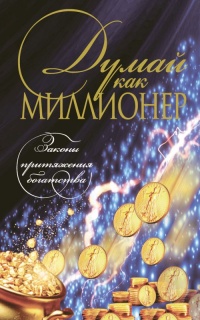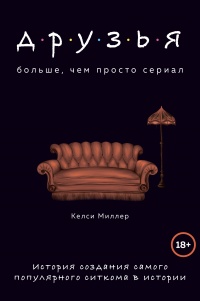«Медиумы, предсказатели будущего и просто гадалки сколотили состояния, продавая мрачные туманные предсказания и советы, как избежать опасности остаться в живых».
Он так сильно «набил» свое предложение неопределенными формами глагола, что оно «вывернулось наизнанку» и поменяло свой смысл на противоположный, а писатель ничего не заметил.
Смущение или равнодушие?
Могу представить себе два сценария.
Первый: автор был слишком смущен обуревающими его чувствами (мы помним, что выражение сильных чувств в нашем обществе зачастую табуировано) и потому использует «язык избегания» – старается построить свою речь так, чтобы никто не догадался о его настоящих эмоциях. А канцелярит для этого приспособлен как нельзя лучше.
Достаточно услышать:
«чувство глубокого волнения»,
«чувство глубокого удовлетворения»,
«чувство нескрываемой гордости»,
«чувство нескрываемой радости»,
чтобы понять: произносящий их вовсе не взволнован, не рад, не горд и не испытывает «чувство глубокого удовлетворения», чем бы оно на самом деле не являлось.
Желая искренне посочувствовать человеку и поддержать его в горе, вы скажете: «мне так жаль», «это ужасно», «бедный ты мой, хороший» или какие-то другие «человеческие» слова. Но если вы хотите только обозначить эмоции, а на самом деле не испытываете их, то, скорее всего, скажете: «примите мои соболезнования».
Вы, наверное, уже угадали второй сценарий, при котором автор прибегает к канцеляризмам: когда он не прикидывается равнодушным, а действительно не испытывает совсем никаких чувств. Поэтому ему ничего не лезет в голову, а написать хотя бы несколько строк нужно. И снова канцеляризмы кажутся спасением: ведь они, как мы уже установили, представляют собой готовые клише, из которых, как из кубиков, можно составлять текст. Но в таком случае неизбежно получится то самое «мертвое слово», от которого нас предостерегали Корней Чуковский и Нора Галь.
Что же делать?
Самый простой и мудрый совет: не писать на те темы, которые оставляют вас равнодушными, и не скрывать свои чувства, если вопрос вас по-настоящему волнует.
Но как быть, если что-то написать необходимо, а вам либо смертельно скучно, либо вы испытываете сильное смущение?
* * *
Давайте снова обратимся за помощью к классикам. Вот короткий отрывок – начало романа «Дворянское гнездо»:
«Весенний, светлый день клонился к вечеру; небольшие розовые тучки стояли высоко в ясном небе и, казалось, не плыли мимо, а уходили в самую глубь лазури.
Перед раскрытым окном красивого дома, в одной из крайних улиц губернского города О… (дело происходило в 1842 году), сидели две женщины – одна лет пятидесяти, другая уже старушка, семидесяти лет».
Конечно, Тургенев очень любил и природу Среднерусской возвышенности, и «дворянские гнезда», да и губернский город О. (очевидно, Орел, неподалеку от которого находилось Спасское-Лутовиново – имение Ивана Сергеевича), возможно, вызывал у него симпатию. Но в процессе написания этих строк он вряд ли испытывал какие-то особенно сильные чувства и прилив вдохновения. Собственно говоря, эти две дамы были нужны ему лишь для того, чтобы завести разговор о главном герое, а впоследствии познакомить его с Лизой Калитиной. Тем не менее, писатель «представляет» читателю двух приятельниц со всей возможной учтивостью.