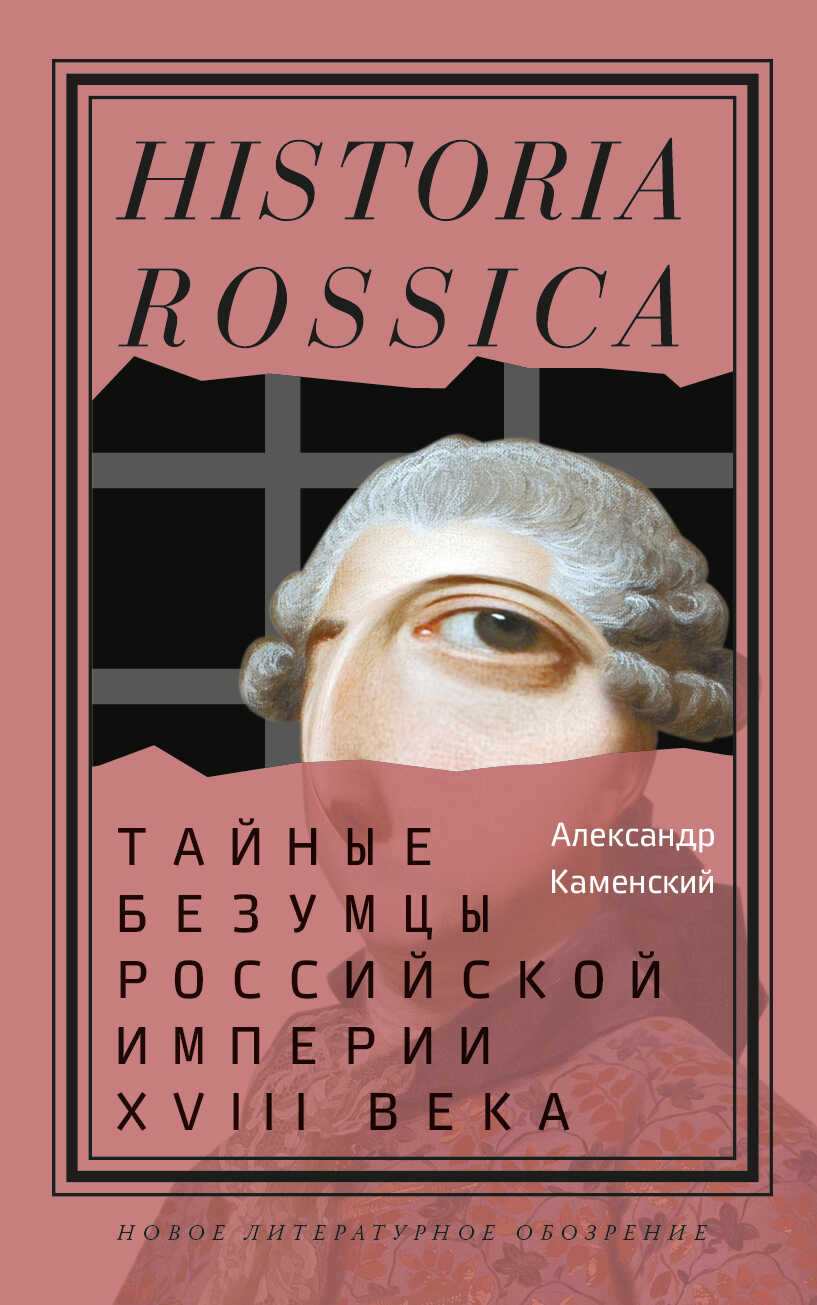сокрыть преступление Годенево сею в Сенат поданною жалобницею своею, так как Годен сокрыл его сие важное на смерть мою состоящее письмо, и пишет, будто б оное письмо писано было только о запечатывании его кабинета, но неужли же ему самому на себя точно то Сенату сказать, что он действительно писал письмо об убивстве меня? А довольно для меня и того, что он тем своим показанием, вместо оправдания Годеню, подкрепил мое показание тем теперь и болея обнаружен то противное должности и законам оное явное Годенево преступление, ибо когда то письмо точно бы им, Годенем, отобрано и дворецкой с тем письмом, как он же Сенату показывает, был главнокомандующему представлен, то уж и по сему самому доказывается онаго письма важность. А если б оно не такова точно было содержания, то бы Годен не имел нужды и сокрыть неважное письмо, но, показав бы мне, существенной истицы и доказательницы, зная, что он подвергается за то уголовному суду, а наипаче, когда отважился из-за того все сокрыть, как от меня донесено было в важности онаго письма главнокомандующему, почему и долженствовало бы непременно оное по силе законов сохранить, а не обратно бы тому же преступнику, дворецкому мужа моего, отдать. Да и конечно бы сохранено было, если б таковой важности то письмо в себе не имело, что должно было уже его для помилования мужа моего и сообщницы его княгини Несвицкой сокрыть, ибо оно точно так писано было, чтоб убить меня до смерти, в чем он, муж мой, и сам почти уже признался, когда пишет, что его письмо в [т]от самой день, как я об нем показывала, точно от него к дворецкому его прислано было, но только не об убивстве меня, а о запечатывании его кабинета. Но самое его сие показание открывает сию его в показании неправость. Когда б он так много меня любил, как он Сенату сам пишет, то не было бы ему в том никакой нужды, чтоб з дороги нарочно прислать письмо о запечатывании его кабинета, ибо никакой опасности ему в том не настояло, когда я сама хозяйка в том его доме осталася и человек до 50-ти людей. От кого же ему так охранять свой кабинет? Кабинет же его тогда же, как он поехал, дворецкой его запечатал. Следовательно, письмо его не того было содержания, как он пишет, да и кабинета своего он никогда не печатывал во все 16 лет, живучи со мною до знакомства его с Несвицкою, а все было у нас нераздельное до ней и не запечатаное, а под моим присмотром оставалося все, что он имел. А вся сия необыкновенность вышла уже от Несвицкой, когда он меня возненавидел, серебро и брилианты у меня обобрал. Показанием же оным он Сенату, в чем велено было иследовать Годеня, точно уже он, муж мой, обличил все почти преступление Годенево, когда написал, что то письмо, в котором я говорю, что он, муж мой, приказывал убить меня до смерти, по прошению моему и по приказу главнокомандующаго точно отобрано им, Годенем, от дворецкаго было и обратно тем же Годенем тому же дворецкому возращено было. Что ж он показывает ложное ему, Годеню, оправдание, только то теперь уже адно, будто б то письмо отдано и дворецкой свободным учинился по приказу графа Якова Александровича Брюса, то сим показанием он особу его сиятельства точно осмелился оболгать, в чом смело могу в той неправости их на его сиятельство сослаться, что он письма то отдавать и дворецкаго, сущего преступника, отпущать без выследования дела сего не повелевал. Вместо того он повелел ему, Годеню, онаго дворецкаго в доме нашем при собрании всех других людей наших и при самой при мне наказать, куда он, Годень, для вида одного только, будто б хотел повеление его сиятельства то исполнить, привезя с собою в дом наш того преступника. И тогда же под видом побега дал ему свободный случай укрыться. Да и как возможно его сиятельству повелеть отдать такое письмо, о котором столь важная принесена была на смерть мою состоящая жалоба? А сокрыл оное письмо самовольствием своим по проискам Несвицкой княгини полицемейстер Годень, видно, ис какова-нибудь пристрастия. Он, Годень, явно онаго законов и должность свою полицыйместерскую точно преступил и волею, и ведением то учинил, не объявя мне, существенной истице, того письма и не сохранил оное в узаконенном месте. И если б подлинно оно было не таково важно, как от меня донесено было его сиятельству, то б оне же, соперники мои, для своего оправдания, а для моего несправедливаго на их показания конечно бы старалися оное сохранить также бы прилежно, как постаралися его, Годеня, склонить к тому, чтоб сокрыть онаго письма важность, для избавления им от того явнаго мною изобличения к убивству моему. А сокрывши уже то письмо, свободно им теперь отмщевать мне за ту прозьбу мою на них столь мучительно, что тягосняе смерти той, которой они хотели меня предать.
И все свои винности, что он тогда соделал, отнес в сенатской его прозьбе к винности вместо себя мне и говорит, будто б я поклепала графа Якова Александровича тем, что по прошению моему будто б хотел тогда же послать нарочнаго курьера в Тульское наместничество, чтоб его, мужа моего, сковавши привести в Москву, от чего если б не избавил его Петр Петрович Моисеев[64] и не упросил бы его сиятельства отменить то ему наказание, то б де всемерно то с ним воспоследовало. Оным показанием он, муж мой, меня точно клеплит, ибо то не я сказала тогда, а сам он, муж мой, всем публично то расказывал в жалобы свою на меня – вот, де, до какова жена моя меня до несчастия довела, что, де, граф, сковавши было, велел меня привесть в Москву, и будто б я его тем самым несносно обидела и оскорбила, так что жить со мною после сего вместе не хочет. И сказал всем тогда, что он за то самое меня бросает, в чем свидетельствуюся генеральшою Анною Алексеевною Хитрово, и московским губернатором Лопухиным, и князем Гаврилою Петровичем Гагариным. И возможно ль ото всего того отклепаться и все то, что он сам тогда сказывал об его сиятельстве, жалуясь на него и на меня в том, и теперь отнес к моей винности и, сам меня бросивши, говорит Сенату, будто бы я его оставила. Вот как Несвицкая коварно сочинила ему сие оправдание.
Относительно