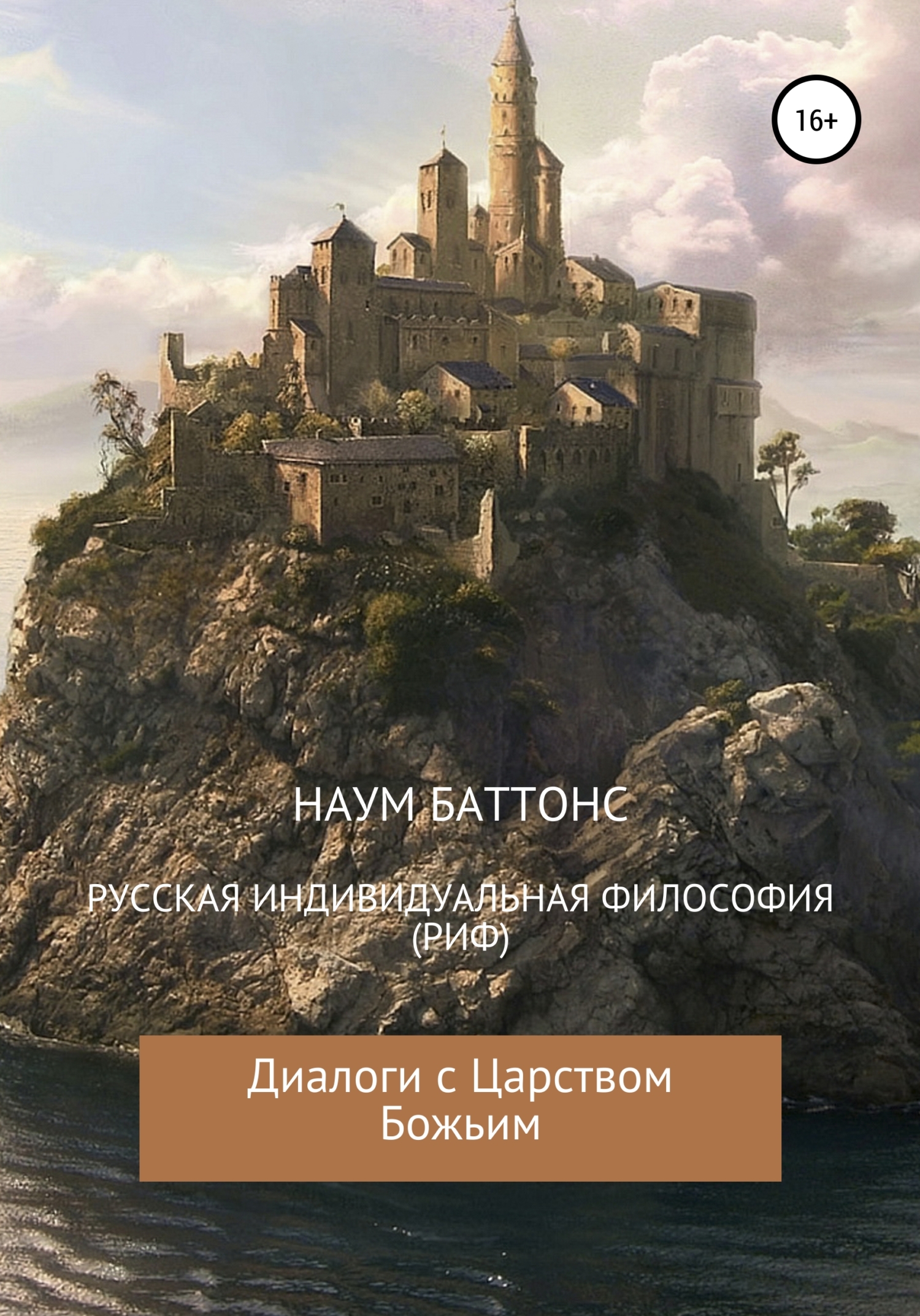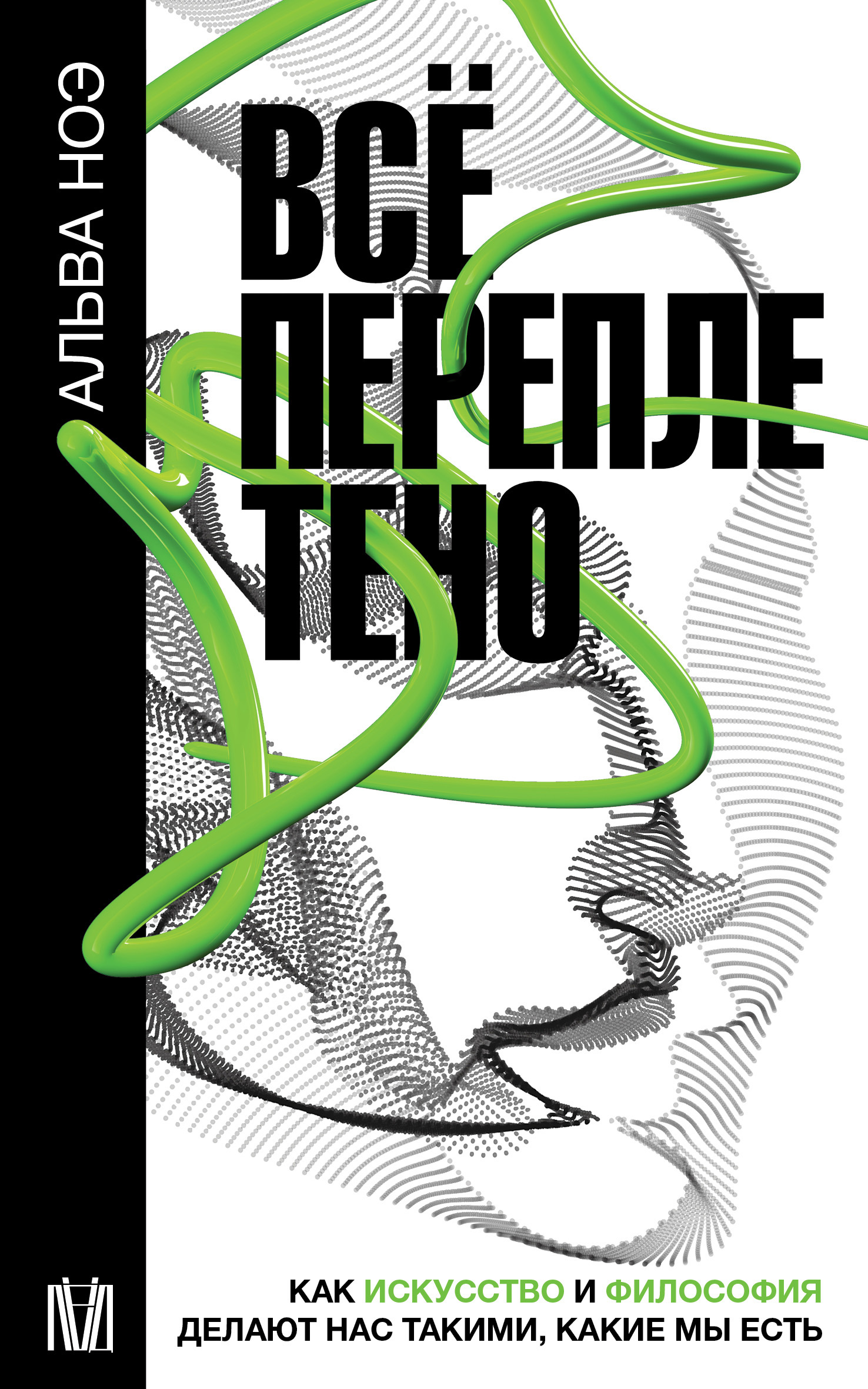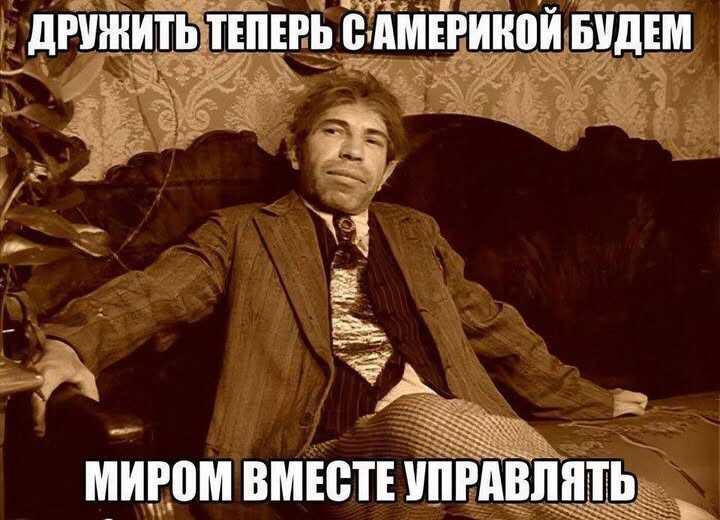силовые линии скрытых прежде взаимосвязей. Именно эти взаимосвязи и призваны привлечь к себе воображение зрителя.
В этом пункте исходные вопросы устроителей выставки и зрителя совпадают: Как видело, как представляло себе человека, его мир, его ценности, его самопонимание наше искусство последних трех столетий? Что в разные времена служило мерой, критерием дел человеческих? В какой мере наше изобразительное искусство, развивавшееся в контексте энергичного становления оригинальной литературы, смогло выразить тайну феномена человека? И кем был этот человек России последних столетий для художника: самоценной личностью, творцом своей судьбы, зависимой частью целого, носителем социального статуса, сана или чина? В чем, каким образом проявлялись свобода, достоинство, гражданственность нашего человека? Прав ли Кант, говоривший о стадиях зрелости и незрелости, совершеннолетия и несовершеннолетия человека на путях истории?
Размышления, ответы на эти и подобные им вопросы предполагают разные подходы, разные перспективы.
Так, в исторической перспективе, которая является определяющей для всей экспозиции, художественные образы манифестируют зримую зависимость человека и его мира от специфики российского перехода из Средних веков к Новому времени, затем – к Новейшему: от византийского наследия к европейскому Просвещению и радикальному просветительству, обернувшемуся трагической жизнестроительной утопией. Ярче всего это заметно в трансформациях мифа, культа и ритуала, формировавших на протяжении истории адекватные своей логике образы человека. На одном полюсе культ религиозный, на другом – антирелигиозный, подтвержденный традицией безраздельного господства государственных интересов над личными. Между полюсами – ритуал поглощения индивида коллективным телом. В такой перспективе визуальные образы предстают уникальными источниками, открывающими путь к прояснению форм мировосприятия, переоценок систем ценностей, жизненных стилей, социально и политически одобряемых моделей поведения. Так, на примере советского искусства можно наблюдать как разные виды образов – образ как магическое присутствие, образ как миметическая репрезентация, образ как техническая симуляция – срастаются в уникальный феномен «социалистического реализма», на протяжении десятилетий формировавшего схемы видения и самопонимания поколений.
В перспективе социальной и политической антропологии те же художественные образы превращаются в источник нашего знания о трансформациях визуальных кодов в дискурсы власти с одной стороны, и в дискурсы несогласия, молчаливого протеста, как например, в послесталинском неофициальном искусстве, с другой. При этом визуальные коды власти – доминанты вертикалей, иерархий, страт и статусов со слабо проявленными либо мистифицированными горизонтальными связями – предстают устойчивыми моделями культуры для разных исторических периодов. Сакральный центр власти претендует на все проявления публичности. Визуальные образы церемоний демонстрируют собственную меру торжественного порядка, инсценирующего динамические возможности иерархий. И художнику, и его зрителю-современнику, запрограммированному на определенное перформативное восприятие, даже самые яркие проявления личности видятся подчинёнными пафосу со-участия в коллективном торжестве авторитарной сакральности. В этом смысле образы межличностного поведения, представленные либо идеальным «Я-образом» и «Я-концепцией костюма» в искусстве портрета, либо аранжировкой пространства и демонстрацией символических предметов в групповых композициях, – свидетельствуют не только о критериях художника, но также о критериях межличностной среды.
В перспективе религиозной веры – веры в соответствие человека изначально заданному ему образу и подобию Бога, веры в причастность всякого
дела к всеобщей истории спасения – образ человека прежде всего символичен. Человек здесь – герой мира знаков, знамений, событий; его символизм – в возможности соединять землю и Небо, временное и Вечное, историю и её конец, эсхатологию. Таковы святые на иконах, объединяющие вокруг себя праздничное, литургическое (слово «литургия» означает общее дело) и личное, глубоко интимное почитание. И рядом со славой – образы предельного позора и унижения: фигуры страстей («Христос в темнице») и крестной казни («Распятие с предстоящими»). Здесь исходная точка всякой политической теологии: Слово Бога, ставшее плотью – не на стороне господствующих. Он – вызов всем сторонам: истеблишменту, революции, бегству из мира или компромиссам с ним. И здесь художники, в том числе и художники XX века, как например, Нестеров, напоминают: образом, мерой человека веры остается видение Бога не только в торжестве и славе, но и перед лицом реальной мучительной смерти.
В перспективе истории искусства те же образы демонстрируют возможности разных художественных систем, обусловленных в своем развитии как собственными традициями, так и мощными тенденциями к обновлению. Речь идет о широкой панораме, представляющей переход от искусства традиционного общества к искусству модерна, где оно разделяется на радикально-инновационное искусство авангарда и противостоящее ему регрессивное по своим формам агитационно-пропагандистское производство. Обе эти ветви представляют собой утопические проекты. В авангарде – основанный на отказе от фиксированной меры господствующих эстетических норм, в сталинском соцреализме, напротив, на утверждении таких норм, заимствованных из «лучших образцов» прошлого. Обе ветви утверждают, что человек создает себя сам. Но в первом случае – через свободный творческий акт, через риск новаторского эксперимента, во втором – через принятие и последующее развитие установок, заданных «генеральной линией» партийно-государственной идеологии.
Сегодня прежние утопии оттеснены новой – утопией современного русского искусства. Ее рождение относится к эпохе послесталинской «оттепели» и общему повороту к догоняющей модернизации. В ту пору современное искусство представляли художники неофициального или полуофициального искусства, – искусства, десятилетиями обитавшего в приватном пространстве квартир и узкого круга друзей. Здесь художник отстаивал свою свободу и достоинство, утверждая собственную меру вещей. Теперь, глядя на созданные ими образы, уже трудно понять, что в этих утверждениях было неприемлемым для господствующей системы. Можно только догадываться: мерой всех вещей была мечта о безмерной свободе – свободе личной, неотделимой от свободы общественной.
Мера вещей (каталог выставки). Образ человека в русском
Искусстве. Киров, 2011, с. 8–13.
Перед концом века
Содержательно Восьмидесятые делятся на две хронометрически не совпадающие части, размеченные границей «юбилейного» 1987 года. В образе же обособленного, условно взятого десятилетия, Восьмидесятые завершаются годом позже – в 1991-м. Хотя для поколений художников, взращенных этим десятилетием, – тех, кто еще привязан к миру своей молодости – Восьмидесятые, похоже, тянутся по сей день.
Труднее с начальной границей. Для историка искусства главные линии художественной жизни, движущие ее силы, сам ход ее, способы ее самоорганизации, логика ее развития простираются за пределы восьмидесятых годов – во времена им предшествовавшие. Также, впрочем, как неотменяемое воздействие доминантных социополитических контекстов, являвшихся одновременно и внешними рамками, и внутренними предпосылками для воспроизводства уже сложившихся, либо инновационных форм культурно-художественных практик.
Сразу оговорюсь: прямых соответствий между «внешним контекстом» и «текстами» относительно автономной андеграундной культуры мы не найдем. Такие соответствия обнаруживаются лишь вниманием к преломлениям, рефракциям. Сила же культурной рефракции, в отличие от наглядного излома чайной ложки в стакане воды, прежде всего зависит от уровня автономии: чем он выше, тем сильнее преломление. Тут явное несовпадение с всецело контекстуальным искусством официоза; выбор пути, личные и групповые