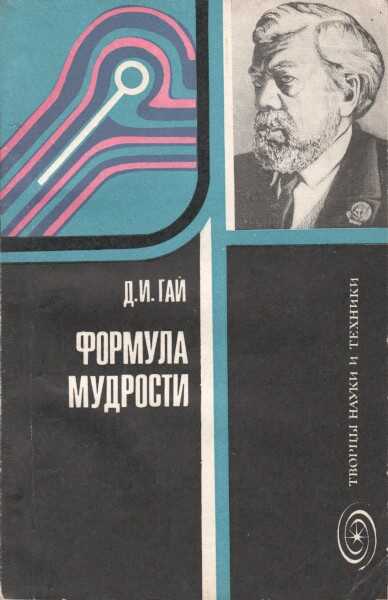направлению к Богослову. Таким образом, в изображении Прохора совмещены два противоречивых ракурса, вследствие чего на иконе видны одновременно спина и грудь, равно как и в изображении головы совмещаются поверхности гораздо больше, чем это может быть видно в обычной перспективе. На первый взгляд фигура Прохора кажется неестественной, горбатой и вывернутой, но рассмотрение ее в композиции целого позволяет увидеть ее в полноте телесной динамики. Флоренский пишет, что в какой-то определенный миг зрительного синтеза мгновенно исчезают и горбы, и распластанность, и анатомическая противоречивость ракурсов: изображение оживает, и мы видим фигуру стройную, с сильными движениями, представленную всем телом.
Здесь под «большим» телом понимается тело больших «двигательных» способностей. У нас имеются женские большие тела. Перетолковывая И. Анненского, можно сказать, что примером им может служить образ женщины у Пушкина – это холодная и могучая русалка; она самодовлеюща и лучезарно-равнодушна к людям, она сама равнодушная природа. У Тургенева также женщина представлена в виде живой мощи и силы, и причем силы активной. Анненский пишет: «Если разбойничья песня напомнит вам, как глядел Лермонтов на случайно осиленную им красоту, как он, в сущности, ее презирал, то символ любви Тургенева вы найдете разве в былинах»[74].
Богатырь, посаженный в женский карман Настасьи Микуличны, да еще вместе с лошадью,– вот настоящий символ тургеневского отношения к женской красоте, которая у него обезволивает, обессиливает, если не оподляет мужчину обещанным наслаждением. Красота у Тургенева, подчеркивает Анненский, непременно «берет», потому что она – самая власть. К этому же типу телесности принадлежит природный образ женщины, но представленный в ее мятежной сексуальной динамике,– это образ ускользающей, гибкой, обжигающей губы, породисто-страстной женщины у Лермонтова. Другое дело тела гоголевских женских персонажей малой величины – это бледные, избитые и измученные полячки (имеются в виду героини повестей Гоголя «Страшная месть», «Вий», «Тарас Бульба»). Женское для Толстого должно быть скромным, как фиалка, и прятаться под большими полями шляпы. Это тело убывающей и инертной малой величины, созданное для деторождения. «Красоте в жизни полагается лишь одна минута надежды на счастье, пока шляпа с большими полями и pince-nez ученого склоняются над так и не названным грибом»[75]. Толстой как бы научает: не удалось – скройся, подурней и оставайся на всю жизнь общей тетушкой. Удалось – рожай и корми, корми и рожай.
Власть женщины, если под властью понимать волость, то есть область действия сил, в данном случае женских сил, видел и Достоевский, но у него она не есть пьянеющая власть наслаждения, а «лирически приподнятая, раскаянно-усиленная исповедь греха». «Красота Достоевского то каялась и колотилась в истерике, то соблазняла подростков и садилась на колени к послушникам. То цинически-вызывающая, то злобно-расчетливая, то неистово-сентиментальная, красота почти всегда носила у Достоевского глубокую рану в сердце; и почти всегда или падение или пережитое его страшное оскорбление придавали ей зловещий и трагический характер»[76]. Образы «падения» здесь обнаруживают действие «низа» человеческого тела. Женская красота у Достоевского является проявлением властной, трансгрессирующей силы, которая оборачивается насилием: она наносит рану сердцу, то есть разрушает телесную сердцевину; она по своему действию порочна (от слов «пороть», «проникать»), поскольку «вс-парывает» мужчин и ведет их тем самым к гибели.
В.В. Розанов полагает, что бабы с картин Малявина выражают вечную суть русского: «„Три бабы“ выражают Русь не которого-нибудь века, а всех веков,– но выражают ее не картинно, для сложения „былины“, а буднично, на улице, на дворе, у колодца, на базаре, где угодно»[77]. Краски «трех баб» на картине Малявина неслучайно, считает Розанов, отражают бело-сине-красный состав российского национального флага. Три цвета национального флага, без полутонов и оттенков,– «есть столь же не начавшаяся живопись, как и одетые в них существа есть почти не начавшийся человек»[78]. Малявин нарисовал три господствующие «географии» русского лица. От этих «трех баб» пойдет потом вся Русь, родятся «Богатыри» Васнецова, как нечто «позднейшее и благообразное». «Средняя из баб – это та недалекость, односложность души, которой предстоит назавтра окончательно исчезнуть, истаять, перейдя просто в формы быта, в обычаи, в простоватые и грубые манеры излишне-континентальной страны, которая живет от всего человечества и от всякой цивилизации „за морем, за океаном“, „в тридевятом царстве“. Баба эта смеется каким-то смехом, в котором нет ни вчера, ни завтра; смеется сейчас, – и в ответ на шутку, сейчас выслушанную. Вся она – минута, не в смысле торопливости, а – короткости.
Глупость ее, безобразие ее, веселость ее – всё делает из нее именно какую-то только морщинку на „лике человеческом“, феномен без субстрата, который пройдет и ничего после себя не оставит, кроме общей аттестации этнографа или историка: Русь жила прежде и теперь живет весело: с румянцем, со смехом, с присловьями и прибаутками, которые собирали Даль, Сахаров и Снегирев»[79]. «Психологична» из баб, по Розанову, только левая, ибо она являет собой декадентку будущего, лицо нервное, мечтательное, с возможностью песен и бурь, хотя и совершенно деревенское… Именно с такими бабами происходят обычно «истории»: или муж ее вгонит в могилу, или она его измучит непонятными мужику «вывертами». В левой фигуре дано «залетное» начало нашей истории, те неизвестно откуда берущиеся мечты, фантазии, чувства долга или ответственности, вообще драма и мука, которые на заре истории выльются в миф или в образ «вещей птицы Гамаюна», а немного позднее выразятся в «Слове о полку Игореве», сложатся в заунывные народные песни, а потом найдут выход в Лермонтове и Чайковском. Это – вещее, поэтическое и красивое начало.
Но самая знаменательная из фигур – правая: она придает картине красный, огненный колорит, а также величину, яркость и незыблемость. Ее типика лица относится к простонародной, она имеется «именно у баб, именно небольшого роста». Эту бабу ничто не раздавит, но она всё раздавит. «Баба эта – Батый. От нее пошло,– пишет Розанов,– „уродилось“, все грубое и жестокое на Руси, наглое и высокомерное. Вся „безжалостная Русь“ пошла от нее». «„Бабы“ – это,– полагает Розанов,– вечная суть русского,– как „чиновник“ вообще, „купец“ вообще, как „боярин“, „царь“ или „поп“»[80]. Между тем обращает на себя внимание его же определение русского человека как «неначавшегося человека», то есть человека, лишенного каких-либо определенных женских или мужских признаков. В самом деле, телесный состав русского человека являет нам некую подвижную структуру, переходную, способную в определенных условиях демонстрировать то мужественность, то женскость (возьмем для примера образ Ильи Муромца, который находится то в инертном женском состоянии, то в необходимый момент проявляет мужские качества защитника).
По В. Райху, тело