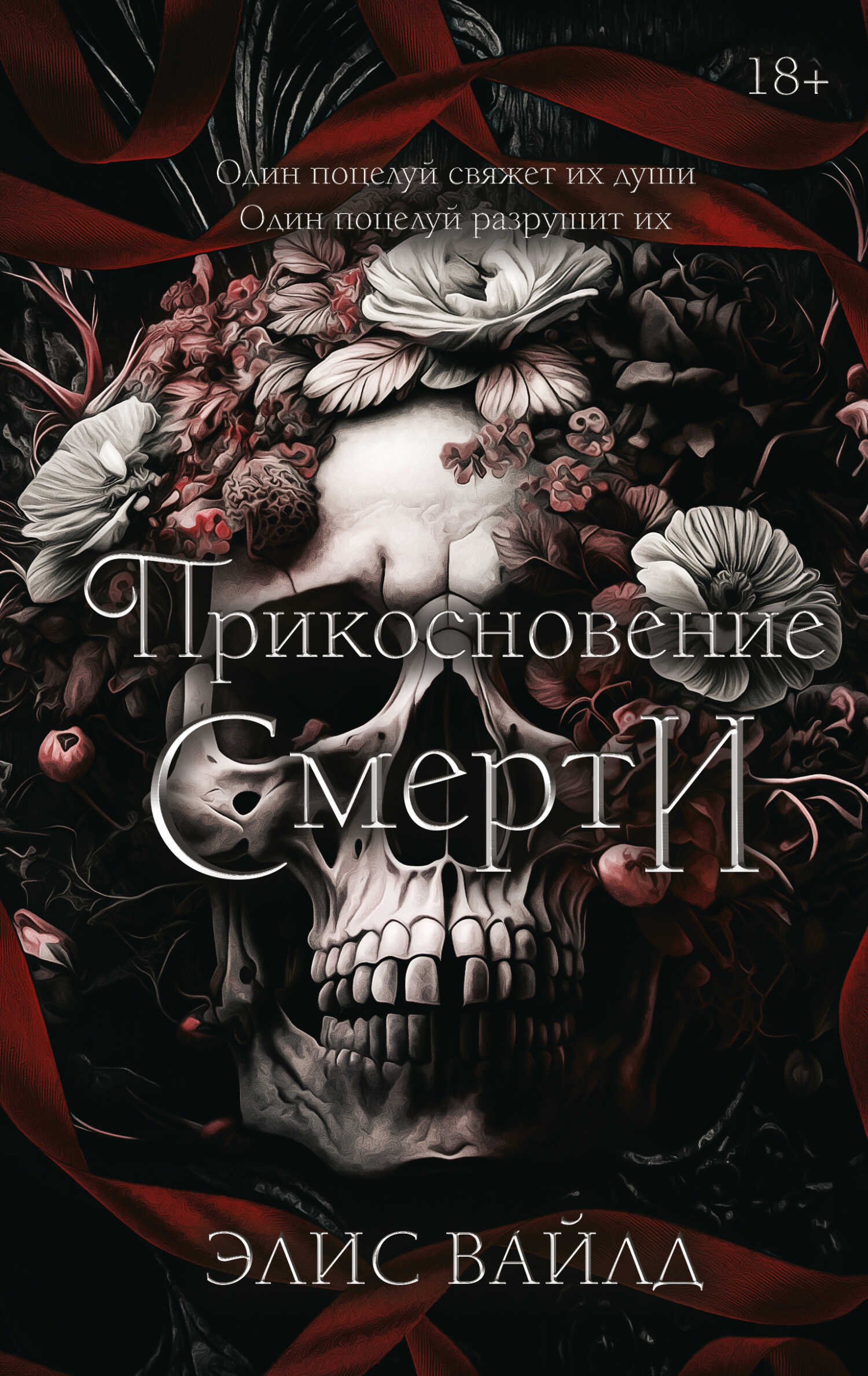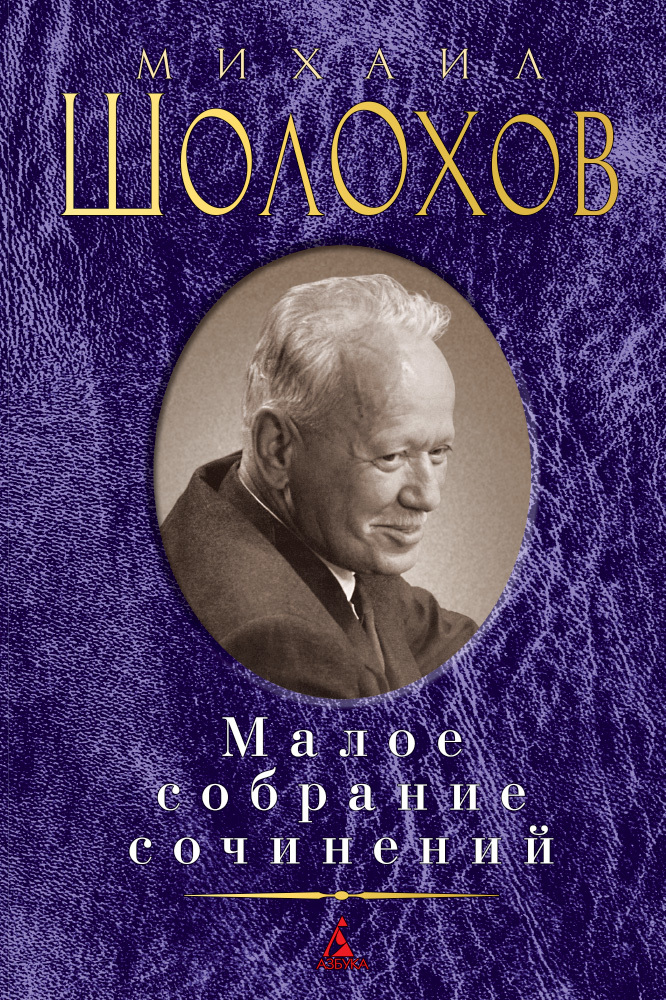у бабушки «рябина» «звучало» почти как «рибина». «Я» произносилось в скользячку. А дядя Ася говорил: «рябина», «прямой».
Особенности говора пришли позже, а сразу обнаружилось, что он хромает и что у него деревянная нога точно такого же коричнево-красноватого цвета, как трубка и палка. Когда он садился, поддёргивая брючины, то одна легко, воздушно как-то поправлялась, задиралась по скользкому лакированному дереву. Заметил я и шарнир на коленке, и чёрные металлические жилины на голени протеза. Бабушка рассказала, что на войне дедушку ранило и ему отрезали ногу и что у него была «газовая гангрена». И что дедушке прострелили ногу автоматной очередью, он то ли пытался ползти, то ли просто лежал, и нога со ступнёй вывернулась в обратную сторону. И что ногу несколько раз отрезали, укорачивали, пока не отступила гангрена. И что у дедушки орден Красной Звезды.
В ордене мне очень нравилась его стеклянность, прозрачная рубиновая глубина лучей. На самом деле он таким мне только казался – лучи звезды на этом ордене не просвечивают насквозь.
Я привык к дедушке в костюме – с палкой или на костылях (костыль с полукругом обхватки в локте – что-то от рукоятки у косы) и вдруг у него дома увидел одноногим с подвёрнутой штаниной. И чуть ли не резинкой на ней. В одноногом домашнем обличье он был намного проворней, чем в костюме и на протезе. Перепрыгивая на костылях, он освобождённо перелетал по комнатам.
Но больше помню его входящим в наш дом. Он наплывал из дверей, ширился фронтом, идя галсами вправо-влево на костылях, с подарком в руке. И всегда с несколько удивлённым видом, словно и сам себе дивился, как явлению. Помню, подарил мне часы с синим циферблатом и в блестящем рубленом корпусе. Он так и нёс их из дверей, надев на кисть металлическим ремешком – набранным из плиток, как гусеница бульдозера.
До появления дяди Аси я не задавался вопросом, почему бабушка одна. Казалось естественным: я один, она одна. Я не особо задумывался о парности жизни. Позже я всё-таки спросил бабушку, почему дедушка ушёл: «Ведь он же любил тебя». Она помолчала, потом сказала «тусклым» голосом: «Любил, а потом разлюбил».
Была у меня любимая поза спать: на полубоку, шея вытянута, одна нога подобрана, согнута в коленке, другая вытянута. Краешком души я даже представлял себя кем-то вроде аиста и, засыпая, тянул линию «рука – нога».
Однажды вечером бабушка долго читала мне Пушкина, а потом, поправляя на мне одеяло и увидев мою аистову полёжку, сказала задумчиво: «Так Арсений спал».
Пока жива
1
Любимым бабушкиным словом было «как следует», а целью жизнью – меня «как следует» образовать. И если музыка стояла особняком в бабушкиной лестнице ценностей, то остальное располагалось по нарастанию так: кинематограф, живопись, литература.
Мустафа дорогу строил,
А Жиган по ней ходил.
Мустафа по ней поехал,
А Жиган его убил.
Так невозмутимо ответил мне Чернышёв, когда я рассказал про фильм «Путёвка в жизнь», на который меня сводила бабушка.
Бабушка никогда не говорила «фильм» – только «картина». Эту картину она любила, как и Антона Семёновича Макаренко, а то обстоятельство, что колония была устроена в бывшем монастыре, она обходила.
В клубе завода «Ильича» на Серпуховке мы смотрели «Детей капитана Гранта» и «Пятнадцатилетнего капитана». Шёл там и «Клуб кинопутешествий» – по правилу первого случая помню единственный фильм: «Они киприоты». Про старинную рознь между греками и турками. Были ещё походы в кино, но большого слова в моём образовании они не сказали, и наше общение с кинематографом оставалось до поры сдержанным.
Живопись же я и теперь понимаю скромно, не умею сказать о картине и дать умную добавку к увиденному. Есть полотна, которые хотел бы видеть рядом, а есть те, что ни за что бы не приблизил.
Берлинская лазурь
Дома у нас лежали масляные краски бабушкиного сына, дяди Андрея, палитра и несколько его пейзажей – на каком-то оргалите или холсте (не помню) – зелёная поляна с одуванчиками. Я не знал, почему краски «масляные», и представлял смесь краски и сливочного масла. Краски лежали в сборчато затянутом мешочке. Мешочек из грубой ткани, с холстинно-крупным рисунком. Всё – и мешочек, и палитра, и кисти – необыкновенно изгвазданное красками и пахучее. Было что-то роскошное в этой неряшливости, поразительно-особенное и специальное, и недостижимое. Но как восхищали и краски, и работа, с ними связанная!.. И крупность мазков, и их толстая крепь, и то, что сам холст мягче, зыбче цветной и толстой его коры. И поражала разъятость мазков при близком рассмотрении, и единство при дальнем.
У нас был знакомый художник – дядя Коля Терпсихоров. Бабушка дружила с его женой по прозвищу тётя Надя Слон. Терпсихоровы жили на Арбате, а я почему-то запомнил, что на Полянке, почти напротив Кремля, и что именно там Слон кормила меня яйцом в мешочек, и я узнал, что яйца бывают крутые, всмятку и в мешочек. Фамилия Терпсихоров меня удивляла, я слышал её как «Трапсихоров», а когда узнал древнегреческую подоплёку, в очередной раз удивился, насколько всё сплетено – сам художник, да ещё и фамилия, связанная с искусствами. Впоследствии я узнал, что подобные фамилии давали помещики крепостным актёрам.
Если допустить, что Терпсихоровы жили на Полянке, то от них недалеко было до Третьяковской галереи.
Зима. Суббота. Идём с бабушкой в Третьяковку.
Погружаюсь в особое, отрешающее ощущение музея… Читаю надписи на табличках под картинами. Какой-нибудь неимоверный год. И скупое: холст, масло. Темпера… гуашь… акварель… Полнейшее замирание суеты… Встающая река… Тишина, и где-то бесконечно далёкая улица, которая всё равно существует, доносится, но как-то особенно, подчёркнуто издали.
При взгляде на тусклый, тёмно-кожаный блеск полотен испытываю чувство сильнейшей заключительности, итоговости того, что перед глазами, и непосильности всего, что за этой плоскостью скрывается, что предшествует.
Вспоминаю праздничное многоцветье дядькиной палитры, каменно засохшие кисти и мятые тюбики с надписями «кадмий жёлтый», «кобальт фиолетовый тёмный»… И снова накатывает ощущением мастерской, где таинство живописи настолько ценно само по себе, что плоская кожура холста с изображением чьего-то лица кажется всего лишь срезом, поверхностью чего-то бездонного и непостижимого. А оно состоит из троящихся карандашных эскизов с волосяными мотками тончайших линий, из мазковой расхристанности, запахов красок, могучего масляного действа, которое художник терпеливо избывает, переживает, прежде чем прийти к заключительной почти скупости. К молчаливому «холст-маслу», к которому никогда не придёт, пока не пересоборует окрестность масляною