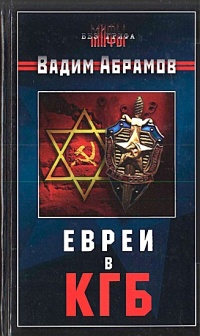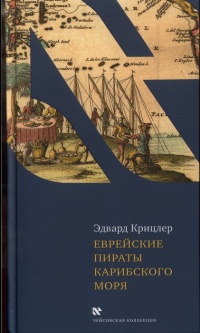товары считал для себя почти на 50% дешевле, а если я предлагал ставить нормальную цену, то кричал, чтобы ему дали нож — он-де нас всех зарежет.
В следующем месяце он согласился на 1600 злотых в месяц, а за еду отдельно. За продукты он считал на 100% дороже рыночной цены, и товары чтоб ему носил только те, какие имею, и за это он будет нас держать до самого конца войны: таким образом он хотел вытянуть из нас всё, что у нас есть, а затем нас уничтожить. Такой вывод можно было сделать из его поведения, но так как нам было некуда сразу же уйти от него, то нам пришлось обещать ему, что будем стараться забрать и принести ему материалы, спрятанные по людям, и жена, несмотря на грозившую ей опасность, вынуждена была пускаться в путь за несколько километров, порой за десять и больше, чтобы в любое время доставлять ему сверху материалы, но ему этого было недостаточно, потому что он не мог получить всё сразу. Он начал применять разные репрессии, прежде всего перестал давать нам хлеба. мы решили искать другое место.
Жена Эльбингера нашла в соседней деревне хозяина, который согласился принять их за высокую плату, но:
поскольку на прежнем месте нам грозила голодная смерть, а то и убийство, мы вынуждены были принять любые предложенные условия, так как нам, по меньшей мере, уже не грозило истребление, как на первом месте, и хотя нас под конец стерегли день и ночь, мы выбрали одну ночь, и я с сыном убежал через дверь на чердаке, выходившую на подворье; мы забрали всё, что имели, кроме одежды и других вещей, которые были у них в жилье… Так мы перетерпели у них 11 месяцев с десятками трудностей и лишений.
На втором месте снова была геенна. Там мы терпели голод и холод, и вдобавок у них был 17-летний сын — мерзавец, который отравлял нам жизнь, мучая детей на разные лады, но когда бы мы ни жаловались на него матери, она кричала и не позволяла это делать.
У другого крестьянина они прожили 15 месяцев. Их двенадцатилетний сын Эммануэль пару раз выходил, переодетый девочкой, в основном за товаром, который они затем перепродавали через посредников. Как-то раз его узнали две подружки по классу, и он едва смог убежать, когда они начали кричать на всю улицу, что вот еврей идет.
Эльбингеры узнали, что в окрестностях скрывается еще один еврей, и сумели с ним встретиться. Они жаждали сведений о родных и знакомых, а также обычного разговора с кем-нибудь, кто попал в такое же положение. Он прятался недалеко, жил в деревне, знал окрестных людей, шил для них и помогал в полевых работах в обмен на прокорм. Его звали Грунбаум, и с ним был ребенок.
В последние месяцы перед вступлением русских крестьяне рассказали, что банды НСЗ, Армии Крайовой и Крестьянских батальонов выслеживают евреев, и чуть только узнают, что где-то находится какая-нибудь еврейская семья, — приходят, расстреливают, убивают, часто те же, кто укрывал их, выдавали или убивали сами я [Грунбаума] предостерегал, чтобы никуда не ходил, только продавал с себя, что сможет, сделал себе запас продовольствия и сидел в убежище, хотя бы уже потому, что его имущество было распределено между несколькими крестьянами, не желавшими его отдавать, явно стремясь его предать и сжить со свету, возможно, с помощью банд, разыскивающих евреев, чтобы их уничтожить.
Он меня послушал и так и сделал. Жене я тоже не позволил ходить к нему, чтобы уберечься. Только мы сильно страдали от холода, потому что мы с женой и двумя детьми лежали зимой под одной узкой перинкой или одеяльцем, а Грунбаум был с одним ребенком, а имел два одеяла, и обещал дать нам одно. А поскольку фронт стал на месте по Висле и Сану и не приближался, а немцы сильно окапывались, мы решили, что война продлится еще всю зиму, поэтому жена решила пойти еще только один раз, забрать это одеяло, а потом уже сидеть на месте и ждать освобождения, сколько сможем. Ранним утром жена пошла через поле к Грунбауму и больше уже не вернулась.
[Сын пошёл через пару дней и] узнал у того крестьянина, что 7 декабря вечером пришло десять бандитов, одетых в польские мундиры и разговаривавших по-польски. Они окружили его дом, застрелили Грунбаума вместе с семилетним ребенком и похоронили недалеко от его дома. На другой день, то есть 8 декабря, пришла моя жена, узнала об этом, но не могла сразу же вернуться, так как в тот день немцы устроили облаву. Вечером та же банда снова окружила дом, и когда жена это заметила, бросилась в подвал, они — за ней, и начали жестоко бить, чтобы рассказала, где скрывается ее семья. Но жена никого не выдала, тогда ее отправили к тому хозяину, у которого мы жили раньше в ожидании смерти, как я уже описал. Что с ней стало дальше, никто в точности не знает, только жена больше не вернулась.
17 января началось советское наступление, и Эльбингеры были освобождены.
Имущество, которое мы еще сумели спасти и роздали перед выселением знакомым, которых считали лучшими людьми, те после нашего возвращения не хотели отдать, ссылаясь на то, что его отобрали немцы или русские, а соседи уверяют, что это неправда, так как они такого не видели и не слышали. Три четверти имущества забрали горожане, я с детьми сейчас в тяжелом и критическом положении, а из близких родственников мало кто уцелел[151].