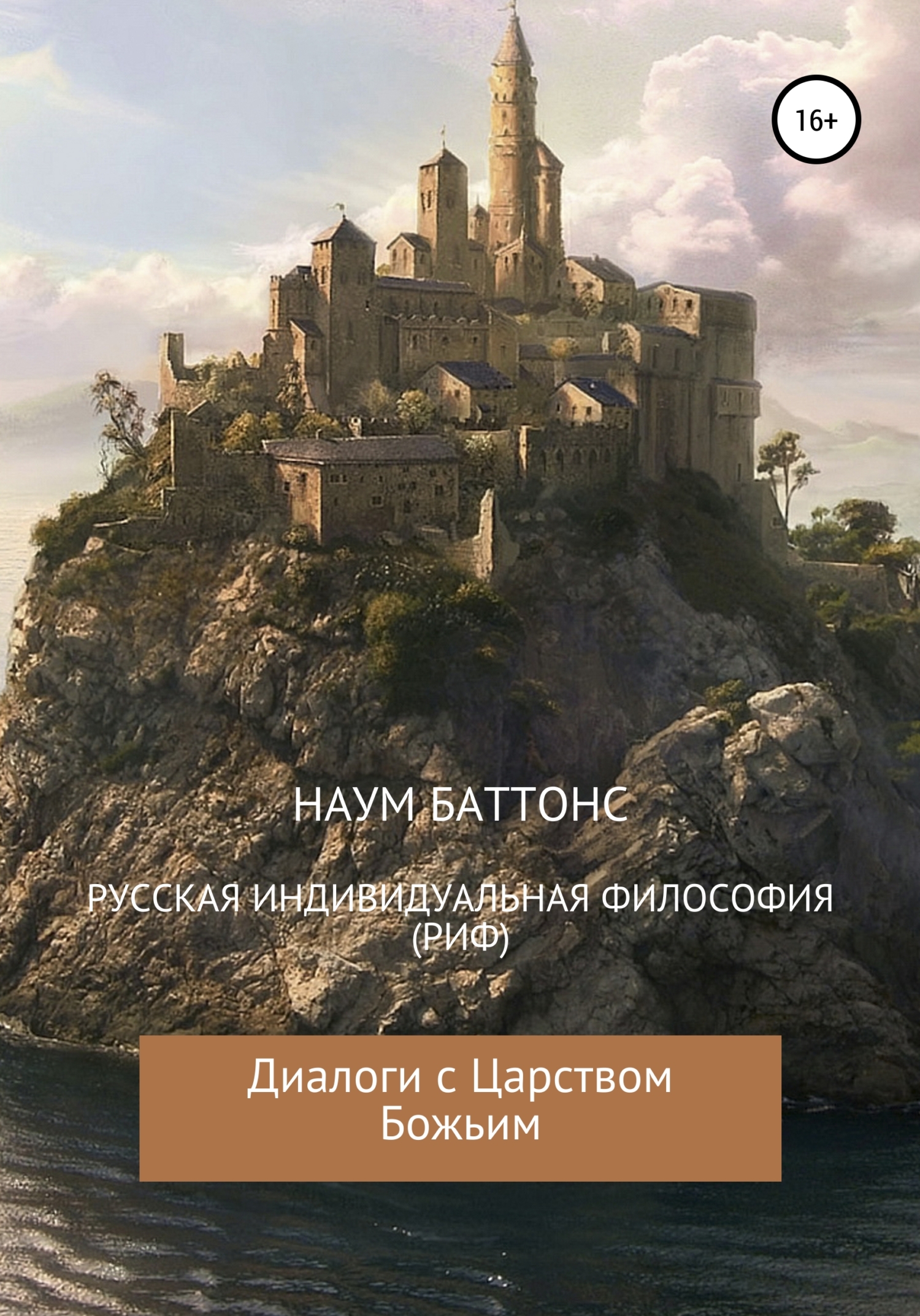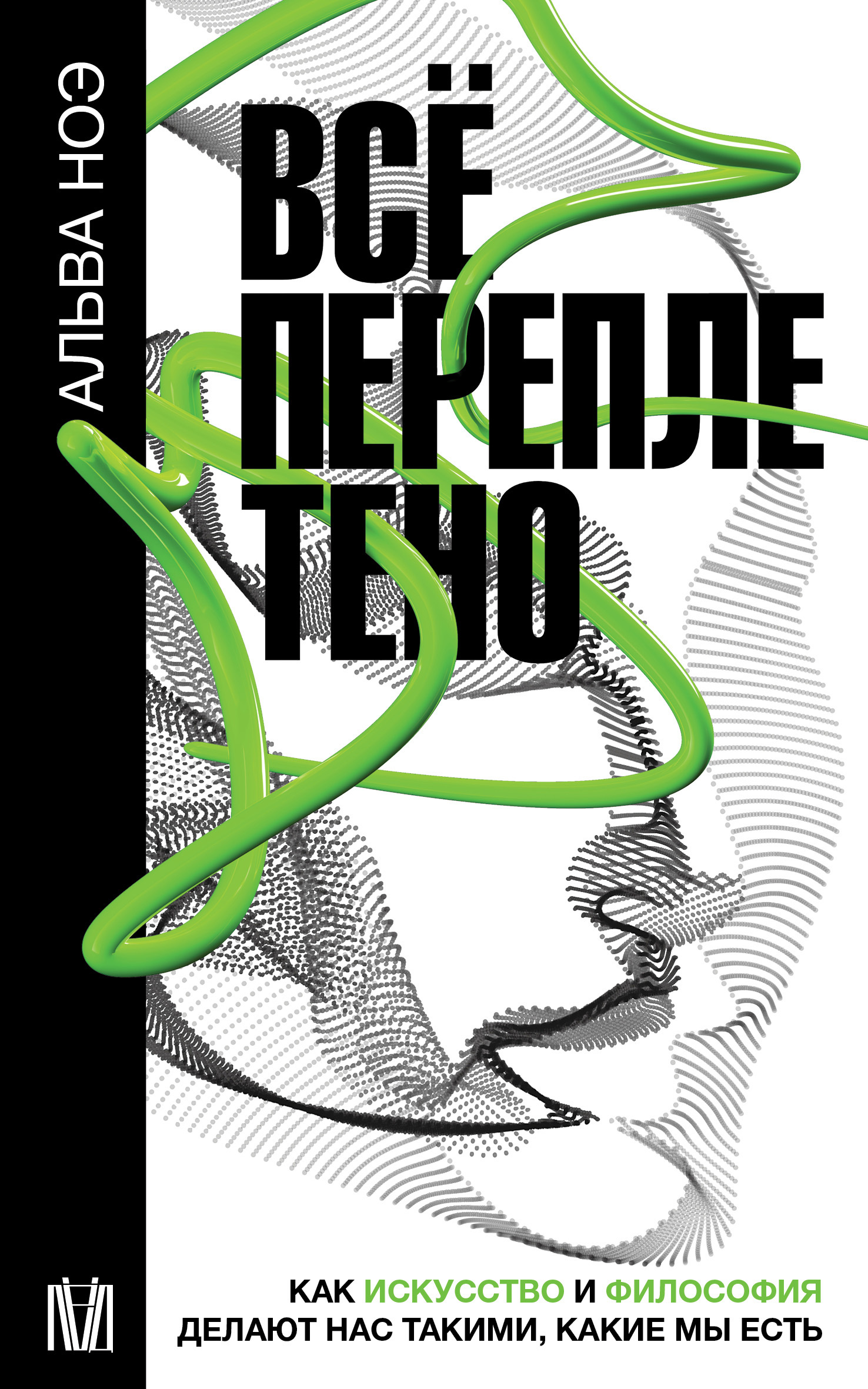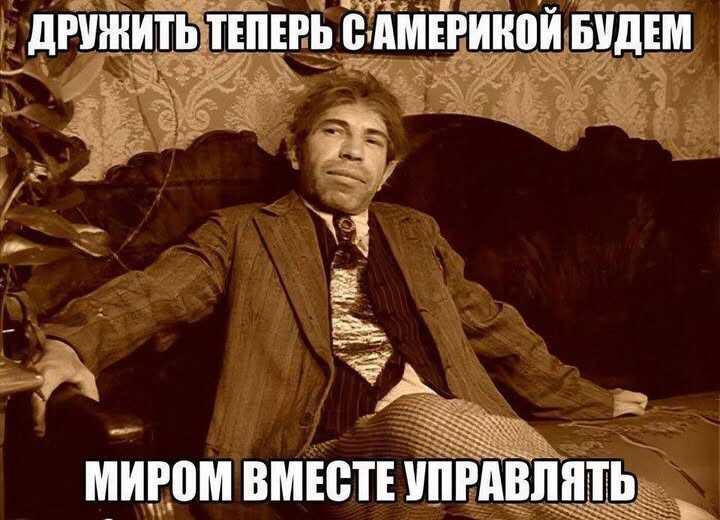(1987), на ARCO в Мадриде (1988), на KunstMesse в Базеле (1988), не говоря уже о множестве западных галерей. Именно здесь активировались прежде латентные процессы конвертирования символического капитала в финансовый и, соответственно, по мере успеха – переход в иные регистры символического капитала.
Внесенный рынком разрыв между ценой и ценностью, рассогласованность между капиталом символическим и денежным, с одной стороны; рыночный успех как определяющий универсальный критерий, объединяющий собой успех в прочих сферах (социальной, экономической, масс-медийной) и как решающий аргумент в эстетическом разномыслии, с другой, – одно из главных испытаний андеграундного искусства.
Ярче всего это проявилось на примере выселенного дома в Фурманном переулке, где весной 1986 года получили мастерские художники К. Звездочетов, С. Гундлах, С. Мироненко, В. Захаров, Ю. Альберт, А. Филиппов, к которым затем присоединилось множество других «художников с Фурманного». Сквот в скором времени стал местом паломничества иностранных туристов, галеристов, дилеров, коллекционеров, корреспондентов. Сами же сквоттеры превратились в коммерческий кооператив по производству перестроечных сувениров для иностранцев «Made in USSR». Фурманные художественные промыслы изготавливали всё: от коммерческой клюквы до коммерческого «не-искусства», стутже придуманными бирками «постконцептуализма», «новой фигуративности» или «нового фигуративизма»… При этом «концептуалисты», симулируя работу живописца, тут же перешли на производство картин, лишь потому, что они лучше покупались, чем объекты или инсталляции.
Рынок решительно менял правила игры, ясность границ, контуры прежних идентичностей. Готовность к ангажированности, сведение искусства к потаканию товарному фетишизму, наконец, к «денежному товару», к коммерческой профанации и наркотическому одурению от запаха шальных купюр – все это и по сей день остается неосмысленным наследством «рыночного поворота» Восьмидесятых.
До сих пор художникам трудно свести цену и ценность: был ли по деньгам товар? или – по товару и деньги?
Сообщество взаимного восхищения
Внятной помощи арт-критики в ответе на вопрос о соотношении цены и ценности художественной продукции Восьмидесятых не нашлось ни в ту пору, ни позже. Прежде всего – по причине отсутствия обязательных, неотменяемых предпосылок: независимости и профессиональной компетенции. О независимости и слышать не хотели; профессионализм замещался энтузиазмом. Перепрофилирование советской критики в «современную» шло одновременно по линиям пропаганды (либеральных идей, рынка, новых имен, нового языка, тех или иных доктрин художников) и арт-журналистики (новые события, необычные феномены, неизвестные прежде художественные практики).
Критика формировалась общим руслом «гласности» – т. е. ослаблением цензуры в сфере масс-медиа и спросом на заполнение «белых пятен истории». Со второй половины 1988 года неофициальному искусству осторожно открывают страницы специальные журналы, вроде «Декоративное искусство СССР», «Творчество», «Искусство»; впрочем, о замалчиваемых либо запретных прежде именах и темах сообщают и многотиражный «Огонек», и «Сельская молодежь», и журналы Прибалтики, не говоря уже о газетах.
Часто новые темы в искусствоведческой журналистике обязаны все той же инерции коллективистской культуры андеграунда. На месте независимых суждений, критической дистанции – симбиоз, взаимовыгодные продвижения, в своем роде «семейный бизнес». Новое искусство пропагандируют и оппортунисты: те, кто еще вчера восхищались «образным богатством» советской книжной графики или «новаторской живописью» Брайнина и Назаренко. Теперь они – адепты нового культа, его миссионеры и популяризаторы.
В области теории современного искусства – доморощенная отсебятина, порой откровенный вздор, обязанный случайному чтению, пересказам, пересудам, слухам. В искусствоведческих суждениях пугающий дефицит ясных критериев, методов и техник анализа, интерпретации. Авторы не доверяют ни своему глазу, ни доказательной силе собственных суждений. Читателю предлагаются либо адаптированные, либо нарочито усложненные – но всегда некритические – версии самоистолкований художников, местные легенды и мифы.
Ситуация отчасти объяснимая: многие прозелиты и пропагандисты в ту пору еще не видели искусства XX века в оригиналах, не представляли его масштабов, особенностей материала, не были знакомы ни со спецификой музеев современного искусства, ни с формами и способами его экспонирования.
Все эти особенности ситуации Восьмидесятых в той или иной мере воспроизводились и позже. В этом смысле можно говорить о «родовых» характеристиках постсоветской арт-критики. Прежде всего, это – ограниченный кругозор, неразвитость, непроработанность терминологического и понятийного аппарата, оторванность от современной эстетики, от истории и теории современного искусства, слабая артикулированность собственных методов анализа. Арт-критик, лишенный твердой почвы знаний, вторит разъяснениям художника, диктофону, пересудам коллег, но не суждениям своего ума и опыта. Отсюда слипание языка критики с жаргоном художника. В художественных предпочтениях – наивное тяготение к литературности, к «приколам», инфантильности, стёбу; и – пугающая немота перед абстрактными формами визуальности. В конечном счете – тексты для тех, кто привык довольствоваться содержаниями на уровне изображений и толкований ключевых концептов. Проще говоря: либретто вместо музыки.
Арт-критика Восьмидесятых сформировала парадигму, которую до сих пор не подвергла строгой перепроверке: от андеграунда она унаследовала симбиотическую связь с дискурсом художника и ассоциативную «междисциплинарную эрудицию», позволяющую произвольно притягивать за уши любую модель, схему или метафору из любой понравившейся автору области; от перестройки – пропагандистский журнализм, воспитанный советской идейностью и оппортунизмом. В результате мы и сегодня имеем устойчивые типические особенности прошлого: доминирование риторической аргументации, нацеленной на убеждение вместо аналитической работой, формирующей доказательства; понимание дела критика как носителя дискурса «власти» и одновременно как ангажированной обслуги в общем деле прославления «звезд»; эстетизация «звезд», культ успеха, обязанный «рейтингам»; наивная вера в тождество рыночной цены и ценности…
Этими же особенностями арт-критики Восьмидесятых пронизана и ментальность тусовки следующих десятилетий.
Дом открытых дверей
Конец Восьмидесятых – возможность практической встречи с Другим миром. Химерический Запад андеграундного воображения – некий «Запад вообще», который имел мало общего с повседневностью, скажем, Германии, Франции, Италии или США – обретает плоть конкретной действительности. Притом действительности, открывавшейся готовностью к доброжелательному, конструктивному диалогу, сотрудничеству.
Основополагающей формой такого диалога-в-сотрудничестве стали заграничные выставки: музейные, муниципальные, галерейные. Все они имели чрезвычайный успех. Одна из первых таких выставок – «Живу – вижу» в Бернском музее (лето 1988) сопровождалась обстоятельным каталогом, большей своей частью подготовленным в Москве. В другой части света, в Сеуле, в том же году – «Олимпиада искусств» – и здесь, опять-таки, московские художники, опять-таки, пространный, неподъемный по весу каталог… Перечень подобных инициатив весьма насыщен. В списках персональных и коллективных выставок художников Восьмидесятых география и своеобразие институций поражают своей широтой и непредсказуемостью. Способы существования московского постандеграунда резко обрели номадический характер.
Мотивации кочевничества – либо челночного, либо с длительными задержками – обусловлены были преимущественно экономическими и техническими причинами: реальным рыночным спросом, свободой от таможенных пошлин (при вывозе из Москвы пошлины могли составлять сто процентов стоимости произведения!), более комфортными условиями работы. Впрочем, не всегда всё сводилось к «твердой валюте»: работа за границей предполагала радикально иной контекст, иного зрителя и критика.
При всей перестроечной эйфории такой критик пытался пробиться к темам, которые