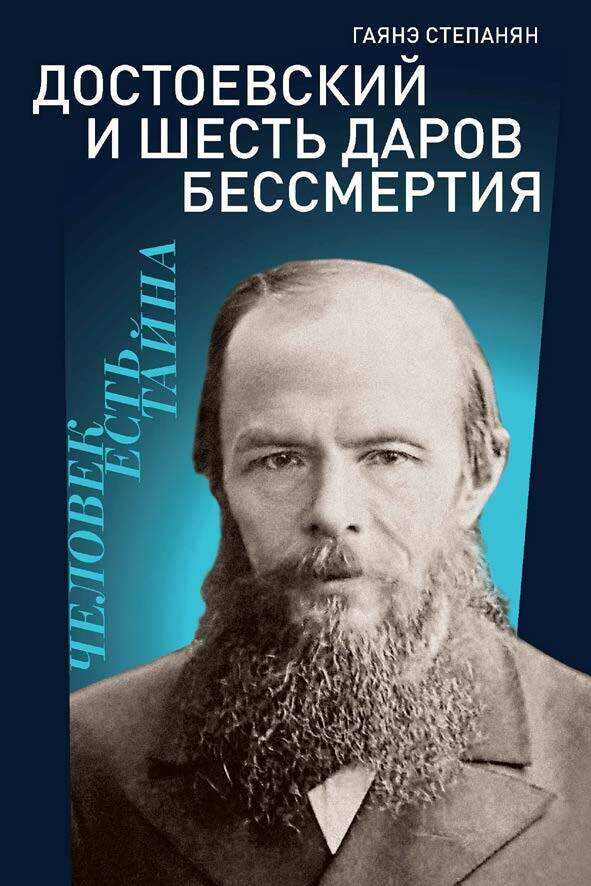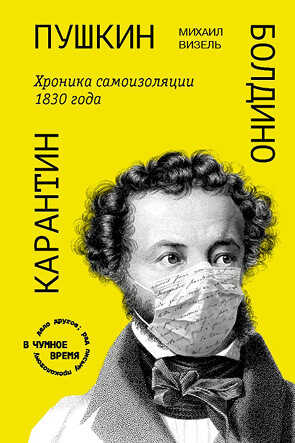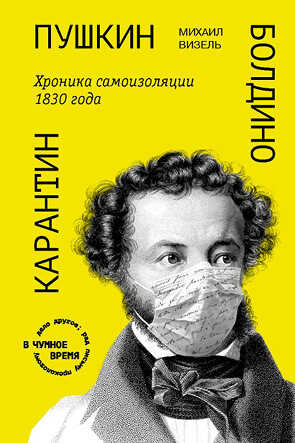мне за „Онегина“, сколько я хочу. Какова Русь, да она в самом деле в Европе – а я думал, что это ошибка географов». Правда, тут же добавляет: «Дело стало за цензурой, а я не шучу, потому что дело идет о будущей судьбе моей, о независимости – мне необходимой» (Т. 10. С. 70). И сразу разбавляет пафос сравнением настолько фривольным, что его и сейчас невозможно воспроизвести.
И здесь, когда мы начали говорить о пушкинских поэмах, будет уместно небольшое лирическое отступление. Как у пианиста пальцы растут над клавиатурой, я, можно сказать, вырос с рыжим десятитомником Пушкина 1977–1979 годов, который мой отец привез из Польши. Это к вопросу о чудесном советском книгоиздании и о чудесных советских тиражах. Мой отец, русский интеллигент, хотел иметь дома полное собрание сочинений Пушкина и нашел его только в Варшаве.
Так вот, я с ним вырос; и я тоже как бы шутливо, но вполне серьезно говорю, что 7-й и 10-й тома этого собрания, а именно «Критика и публицистика» и «Письма», оказались моим журфаком. Я же ведь не учился на журфаке, а сейчас я работаю шеф-редактором интернет-СМИ, и это произошло в первую очередь благодаря тому, что я внимательнейшим образом читал эти два тома. По семейным причинам я с этим десятитомником надолго был разлучен. А когда, уже после карантина, снова с ним «воссоединился», принялся читать по порядку и вдруг понял, что десятитомник Пушкина – это такие десять номерных альбомов «Битлз». Примерно такое же ощущение возникает. И вот почему я сейчас об этом говорю: во-первых, как мы помним, битловские альбомы были невероятно успешны коммерчески, и, во-вторых, они тоже задали новый уровень того, как можно сочинять, записывать, распространять то, что раньше считалось ерундой, – подумаешь, песенки какие-то, а оказалось, не ерунда. И, конечно, понимая всю условность таких широких сравнений, тем не менее рискну сказать, что южные поэмы Пушкина – «Кавказский пленник», «Бахчисарайский фонтан», «Цыганы»[56] – были такими первыми битловскими альбомами. То есть он сразу заявил о себе не просто как о невероятно ярком таланте, но как о мастере, который задает новые правила игры. И оказалось, что эта игра чрезвычайно выгодна для того, кто ее ведет.
ГС:
И это еще не вышел сборник его стихов в 1825 году. Но о нем позже. Мы подбираемся к концу южной ссылки, к переезду в Одессу под начальство генерала Воронцова, героя войны 1812 года.
Пушкин в Одессе
МВ:
Напомни, чья это была инициатива. Сам Пушкин захотел перебраться из Кишинева в Одессу?
ГС:
О переводе Пушкина из захолустного Кишинева в оживленную Одессу хлопотали его друзья, в частности Жуковский и Вяземский.
МВ:
И понятно почему: конечно, Инзов – «добрый старик», и отношения у них сложились самые патриархальные: «Старичок Инзов сажал меня под арест всякий раз, как мне случалось побить молдавского боярина. Правда – но зато добрый мистик в то же время приходил меня навещать и беседовать со мною об гишпанской революции» (Т. 10. С. 77)[57]. И он же, пятидесятидвухлетний «старичок Инзов», предложил молодому ссыльному поэту вступить в масонскую ложу «Овидий» – каковое предложение, естественно, было с восторгом принято. Но, быстро исчерпав весь exotique, Пушкин отчаянно скучал. Ему хотелось европейского общества, которое, конечно, могла ему дать Одесса – раз уж приходится оставаться на юге.
ГС:
Одесса – это маленький то ли Париж, то ли Петербург, как ее на тот момент называли. Портовый город, в котором встречались все культуры.
МВ:
Город невероятно космополитичный, населенный французами, итальянцами, греками, евреями, что в то время было далеко не так распространено. Конечно, двадцатичетырехлетнему Пушкину туда хотелось, конечно, ему было интересно. И он там воспрял душой.
ГС:
Итак, Пушкин оказывается при канцелярии Воронцова. Воронцов одним из первых отменил телесные наказания в армии. При этом он был убежденный военный и полагал, что если человек посвящает себя поэзии, то он бесполезен. Правда, поначалу Воронцов и Пушкин произвели друг на друга хорошее впечатление. Пушкин написал брату по прибытии в Одессу 25 августа 1823 года: «Между тем приезжает Воронцов, принимает меня очень ласково, объявляет мне, что я перехожу под его начальство, что остаюсь в Одессе…» (Т. 10. С. 53)
МВ:
При этом надо сказать, что у Воронцова был открытый дом. Он считал своей обязанностью генерал-губернатора принимать у себя образованное общество, выступать, что называется, стержнем этого общества. И, конечно, лицеиста, известного поэта он принял очень ласково.
ГС:
Поначалу да. В Одессе у Пушкина начинаются финансовые сложности, потому что отец выдавал деньги очень нерегулярно. Поэтическая и бытовая реальности контрастировали так же, как в наше время – жизнь и соцсети. С одной стороны, есть вот эта празднично-поэтическая реальность, в которой и кофе, и устрицы, и чего там только нет.
МВ:
Это потом было описано в «Путешествии Онегина»:
Что устрицы? пришли! О радость!
Летит обжорливая младость
Глотать из раковин морских
Затворниц жирных и живых,
Слегка обрызнутых лимоном.
Шум, споры – легкое вино
Из погребов принесено
На стол услужливым Отоном;
Часы летят, а грозный счет
Меж тем невидимо растет.
ГС:
Или еще, оттуда же:
Бывало, пушка зоревая
Лишь только грянет с корабля,
С крутого берега сбегая,
Уж к морю отправляюсь я.
Потом за трубкой раскаленной,
Волной соленой оживленный,
Как мусульман в своем раю,
С восточной гущей кофе пью.
Иду гулять. Уж благосклонный
Открыт Casino; чашек звон
Там раздается… (Т. 5. С. 176–177)
С другой стороны, вот прозаическая реальность, описанная в уже упомянутом письме брату: «Изъясни отцу моему, что я без его денег жить не могу. Жить пером мне невозможно при нынешней цензуре; ремеслу же столярному я не обучался; в учителя не могу идти, хотя я знаю закон Божий и 4 первые правила…»
МВ:
Пушкин издевается, конечно, насчет закона Божьего, а «ремеслу столярному» это, возможно, намек на библейского Иосифа. Потому что где-то в это же время пишется «Гавриилиада».
ГС:
Уже написана. «На хлебах у Воронцова я не стану жить», – тоже он об этом пишет.
МВ:
И здесь еще надо добавить, что все это время Пушкин получал жалованье как чиновник 10-го класса – 700 рублей в год. Причем из Министерства иностранных дел. Но, по его собственному позднейшему признанию, рассматривал это жалованье чиновника как