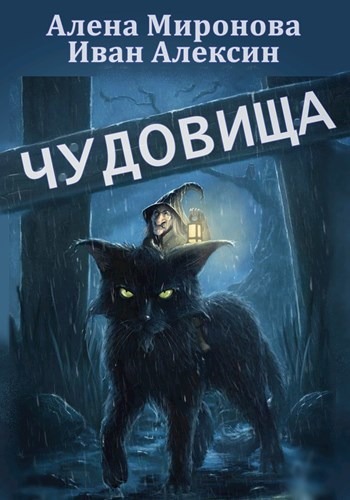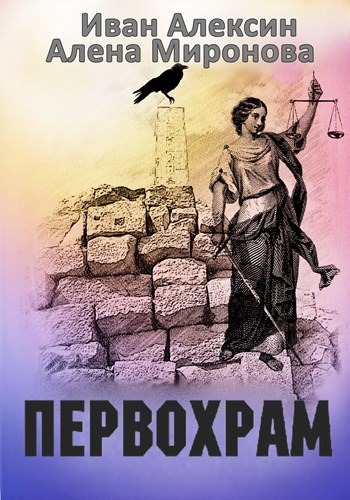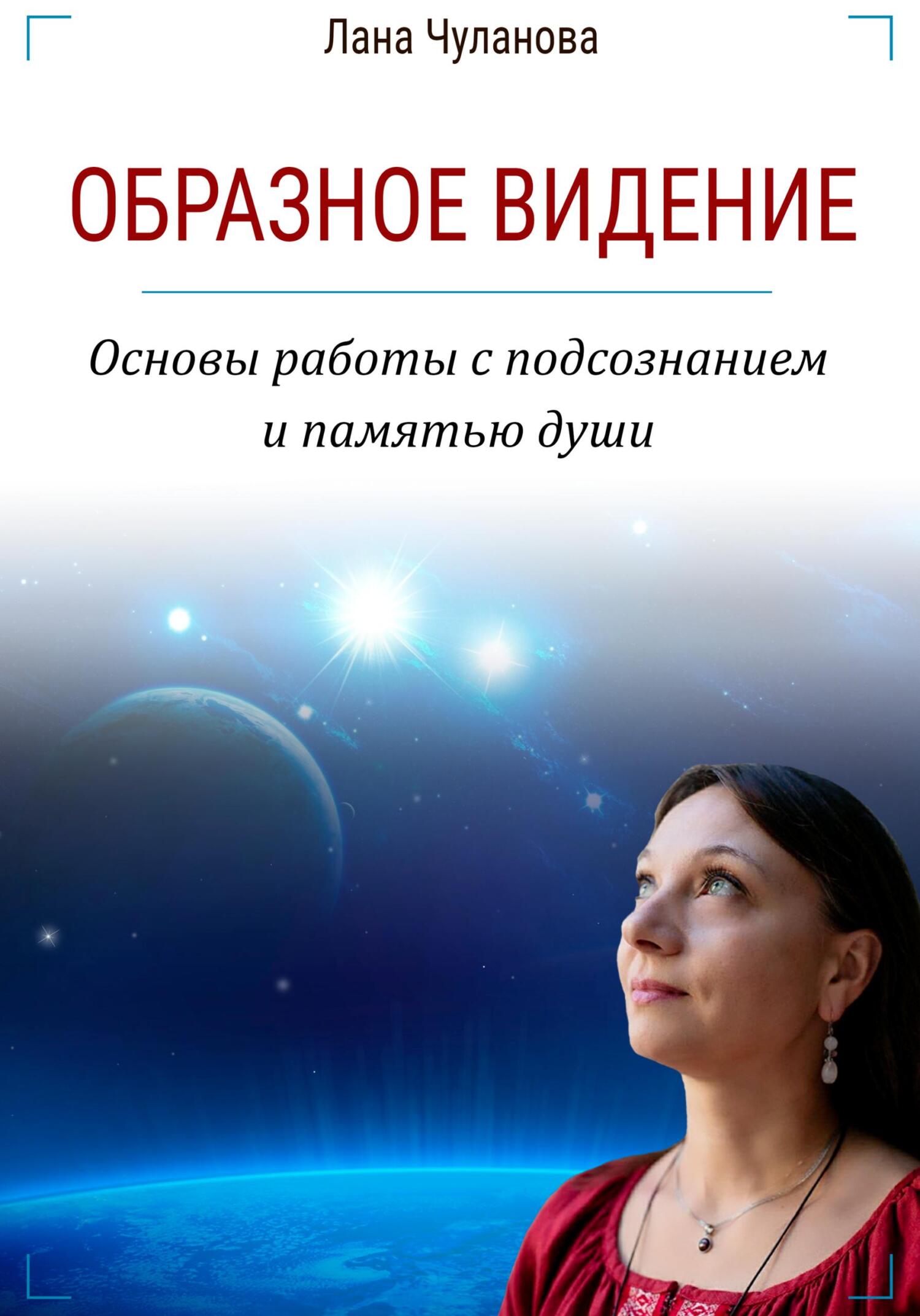Зритель, который посвящен в игру, имеет возможность дистанцироваться от истории, которую рассказывает архив, и обратить внимание на механизмы ее репрезентации.
Мы сфокусируемся на выставках, в которых работа с документом прежде всего направлена на конструирование особого переживания для зрителя. Этот опыт находится на границе между театральным и художественным. В данном случае встает вопрос о границах документальности в современной выставке: когда документ сохраняет свои свойства, историю и человека за ним, а когда разрушается полностью для создания эффекта или определенной сценографии? когда документальность разыгрывается, а когда сохраняет свои очертания?
Игра в документальность в музейном пространстве ставит целью вовлечение зрителей в историю, она позволяет ему легче воспринимать информацию и погружаться в рассказ эмоционально. Однако зачастую обращение к формам документального рассказа, воспоминания о прошлом в современном искусстве связано не столько с созданием пространства зрительского опыта, сколько с необходимостью обнажить, сделать видимыми механизмы работы памяти. Поэтому встают вопросы о том, как может быть устроена такая выставка, как и что она показывает. Какие обрывки воспоминаний остаются и превращаются в истории, которые мы передаем из поколения в поколение? Мы попробуем рассмотреть несколько выставок, предлагающих разные стратегии работы с выдуманными историями.
«Выдуманный архив» как часть музейной экспозиции
Выставка Remember the Children: Daniel`s Story в Музее Холокоста в Вашингтоне представляет собой своего рода коллаж, соединивший дневниковые записи детей, игрушки и другие бытовые предметы. Экспозиция посвящена истории мальчика Дэниэла, но Дэниэл – персонаж, а его жизнь – это жизнь множества детей, ставших жертвами Холокоста. Выставка создана на основе одноименной книги с включением фрагментов из других детских воспоминаний и дневниковых записей. Кураторы отказываются от работы с подлинной историей в пользу коллажа, составленного из фрагментов реальных и выдуманных рассказов. Они создают выставку, которую можно обозначить как фиктивный архив.
Фиктивный архив позволяет пространственно организовать материал и выстроить особые отношения между историей и зрителем. Во-первых, он дает возможность отклониться от погружения в «историю о травме» и сконцентрироваться на «проработке травматического опыта»[152] от первого лица. Во-вторых, фиктивный архив или фиктивный музей показывает выдуманную жизнь, вымышленные воспоминания ребенка, а значит, отсутствует необходимость постоянно сверяться с подлинностью документа: зрителю позволено отклониться от историчности экспозиции и воспринимать ее как образ. Детство здесь играет ключевую роль, так как делает возможной выдумку и снимает пафос чрезмерной серьезности, которая зачастую свойственна экспозициям музеев совести.
Выставка Remember the Children: Daniel`s Story является примером работы музея, направленной на конструирование зрительского опыта. Основными зрителями являются дети, поэтому кураторы обращаются к выдуманной истории. Происходит игра в документальность, основанная на материалах, связанных с историями самых разных людей. Выстраивая выставочный диспозитив таким образом, кураторы создают пространство опыта, построенное на реальных документах.
Игра в документальность как диспозитив выставки
В отличие от музейных выставок проекты в независимых и самоорганизованных пространствах основаны на других способах работы с документальным материалом. Однако имитация документальности остается распространенной стратегией исследования памяти. Так, Анастасия Кузьмина на выставке «Двойной зажим» (2019) в галерее «Электрозавод» показала видеоинсталляцию, где на двух экранах разворачивался диалог отца и дочери. Отец вел дочь по улице и делился своими воспоминаниями, рассказывая, что раньше жил здесь и что здесь «раньше была булочная», а в соседнем доме жила соседка. При этом мы слышим повторяющиеся отрывки фраз вроде «на пятом этаже», которые как будто намекают, что за фразой стоит история, – может быть, его семья жила на пятом этаже? а может быть, его друзья? Мы не узнаем ничего конкретного, никаких подробностей ни о времени, когда здесь жил отец, ни о том, куда он потом уехал, ни о его семье. Этот диалог – попытка ухватить саму суть нашей памяти, того, как мы помним: отрывками, внезапно появляющимися воспоминаниями и случайными фразами.
Несмотря на отсутствие конкретности в разговоре отца с дочерью, ощущение прожитой истории появляется здесь в языке, в интонациях отца. Рассказы о вкусном хлебе из булочной, о соседке, о детском саде. Это общие места воспоминаний о детстве: яркие вкусы; люди, которые тебя окружают, но теряются, когда ты становишься взрослым; лица людей, которых больше никогда не увидишь. Каждый зритель улавливал что-то знакомое в этих фразах, однако они как будто ничего нам не сообщали.
Нормальность, даже клишированность рассказа выявляет разыгранность ситуации, которая происходит на видео. В процессе рассказа отца дочь начинает плакать. Действие происходит летом в Москве, однако пара одета в зимние куртки и шапки. Все указывает на то, что эта ситуация не настоящая. Кузьмина ее выдумывает и использует актеров, то есть разыгрывает историю.
Оператор Алексей Арсентьев снимает актеров так, как будто мы подглядываем за ними, вмешиваемся в личную жизнь, наблюдаем, как плачет девушка, а мужчина делится своими детскими воспоминаниями. При этом мы знаем, что это постановка, а не личная история, которую с журналистской дотошностью документирует художник. Кузьмина смещает рамки нашего привычного поведения. Зрители начинают сомневаться: если мы подглядываем за людьми, то почему история не настоящая?
Соединяя фразы, точно определяющие суть воспоминания, и рамку вымышленной, разыгранной ситуации, Кузьмина раскрывает механизмы работы наших воспоминаний. Дискомфорт, который испытывает зритель, понимая, что ситуация происходит не на самом деле, проявляет столкновение документальной и художественной оптик взгляда на память. Документальность рассказа нарушается действиями героев, что побуждает зрителей прислушиваться, обращать внимание на то, о чем они говорят, что в истории от нас скрыто.
«Двойной зажим» ставит вопросы о том, как мы помним, как устроен механизм работы воспоминания и можем ли мы имитировать его. Что может натолкнуть нас на воспоминания: окно в старом доме или похожий на друга детства человек? Существует ли общий язык разговора о нашем прошлом? Все эти вопросы становятся ключевыми, когда мы анализируем стратегию имитации документальности, так как зачастую она призвана раскрыть для нас внутренние механизмы передачи наших воспоминаний.
«Выставка вещей № 2». Квартира как сцена для документальной выставки
Исследование этих вопросов лежит в основе проекта «Выставка вещей № 2» (см. ил. 9 на вкладке), организованного в начале 2020 года кураторами Елизаветой Спиваковской и Михаилом Колчиным. Это уже вторая инициатива кураторов – первая «Выставка вещей» была организована в квартире в Казани перед тем, как та была выставлена на продажу после смерти владельца. Здесь, в Москве, кураторы выбрали для показа старые вещи, найденные в московской квартире, а также произведения искусства, сделанные специально для проекта. В одной из рецензий на выставку Александра Воробьева написала:
Отношения человека с вещами – всегда микродрама. Вещи дарят радость,