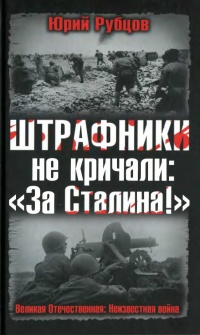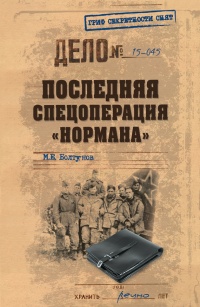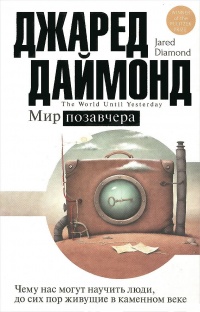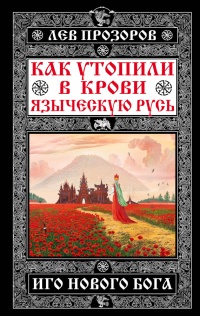Чур меня самого! Наважденье, знакомое что-то, —Неродящий пустырь и сплошное ничто – беспредел,И среди ничего возвышались литые ворота,И этап-богатырь – тысяч пять – на коленках сидел.В страшном стихотворении про этап и райские яблоки спастись из рая-зоны можно только погибая еще и еще раз: смерть оказывается эквивалентом государственной границы, способом перехода, но никогда – подлинным выходом: кругом пятьсот, ищу я выход из ворот, но нет его, есть только вход, и то не тот. Ад Высоцкого – место без КПП, исход здесь не предусмотрен. Есть лишь его заменители, способы вечность проводить – и они те же, что в аду Дантовом, это бесконечные рассказы о себе и бесцельное движение. Песня, где ангелы поют такими злыми голосами и кони вечно мчатся по воздуху над обрывом, как Паоло и Франческа во втором круге, как цветаевские Маруся с Молодцем, летящие в огнь-синь, – лишь одна из множества текстов о движении, не знающем ни цели, ни срока, только плоскую среднерусскую бесконечность.
В конце семидесятых Высоцкий писал Михаилу Шемякину: «Я, Миша, много суечусь не по творчеству, к сожалению, а по всяким бытовым делам, своим и чужим. Поэтому бывают у меня совсем уж мрачные минуты и настроения, пишу мало, играю в кино без особого интереса; видно, уже надоело прикидываться, а самовыражаться могу только в стихах, песнях и вообще писании, да на это – самое главное – и времени как раз не хватает. Только во сне вижу часто, что сижу за столом, и лист передо мной, и все складно выходит – в рифму, зло, отчаянно и смешно».
«В рифму» как свидетельство складности, творческой удачи – здесь есть особого рода робость, это слова человека не-текстового, вовеки удивленного: надо же, рифмуется!
Это странно контрастирует с головокружительными рифмами Высоцкого, с ощущением органической, почти животной, ладности, исходящей от каждого его стиха. Казалось бы, это не должно вызывать никаких сомнений, как не сомневается мастер в своем наборе умных инструментов. Но самоощущение Высоцкого предельно далеко от идеи литературного профессионализма: как бы сам он ни тяготился этим, его текст, как и его жизнь, существует вне литературы, против ее коллективной шерсти – не совпадает с нашими ожиданиями, зависает и длится, дышит где хочет.
Равнодушие поэтов и поэзии к стихам Высоцкого (даже высокая оценка Бродского, который писал и говорил о его смерти как о невосполнимой потере для языка, устроена сложней, чем кажется – и начинается с обязательных оговорок) не так уж удивительно. То, как Высоцкий настаивал на себе-поэте, только мешает понять, в чем дело, так же как его невероятный версификационный дар, сравнимый по степени уступчивости речи разве что с цветаевским. Километры песен, написанные им, имеют не двойную, а тройную природу: по замыслу и охвату это не стихи, а проза, ее задачи и ее способ иметь дело с реальностью; не Галич и Окуджава, а Шаламов и Даниил Андреев. Получилось что-то вроде «Розы Мира», написанной против собственной воли, вне визионерского жара – и поэтому с большей точностью и безысходностью, безо всяких небесных кремлей – и погруженной в реальность шаламовских рассказов. Полный корпус песен Высоцкого замещает собой эпос второй половины XX века, его окопы Сталинграда и красные колеса, и заезжает далеко в нашу сегодняшнюю повседневность. Для понимания гибридной архаики, накрывающей нас сегодня, важнее текста, кажется, нет.
2015О смерти и немного до
(Григорий Дашевский)
1
В мае 2010 года Григорий Дашевский рассказывал студентам переводческого семинара о 85-й эпиграмме Катулла. Говорил он, в числе прочего, вот что:
Что такое эпиграмма исходно? Вот есть предмет, и он непонятно, что такое – и вот на нем написано, что он такое. Причем отметьте, что в Средиземноморье жили люди иного темперамента, чем мы – прежде всего это греки. Им было любопытно все. То есть они как бы, увидев любой камень, подходили к нему: что это, почему? А там написано: вот его поставил такой-то. Скажем, в нашем климате, с нашим темпераментом нам незачем писать эпиграммы. Столб стоит, не стоит – какая разница, никто не подходит. Мы сразу узнаем туриста по тому, что человек читает подписи под картинами или мемориальные доски. Ему интересно, что это такое. А там человек шел и перед каждым камнем, приношением в храме, горшком останавливался: что это такое? почему это здесь? кто это сделал? зачем это? И там все эти вопросы были предвосхищены, и было написано: я горшок, я посвящен Афродите, меня сделал такой-то. Или: меня звали так-то, я здесь лежу, я умер, я прожил двадцать лет. Прохожий, вспомни обо мне. Или – теперь иди дальше. Там замечательно это включение предвосхищенной – воображаемой, когда писался этот текст, но абсолютно реальной – ситуации. Они знают, что он остановится, а теперь может идти дальше. Вот у нас на кладбище, – казалось бы, мы все наследники этих же надписей – но отметьте, вот эта фигура человека, которому любопытно, который не может не остановиться, как завороженный, и, пока не узнает, кто здесь лежит, дальше не пойдет, – у нас она совершенно не имеется в виду. Все написано в какое-то ««вообще» – или высшим существам, или как некое официальное TWIMC. Но вот представить себе, что «а теперь иди дальше» – этого нет. А там это любопытство настолько входило в систему поведения и жизни, что из будущего вызывало эти ответы на вопросы.
В тексте, написанном годом позже, зимой 2011-12-го, этот же любопытный прохожий, видящий, слышащий, настойчиво желающий знать и отчетливо необходимый автору, возвращается в новом обличье.
Правильный читатель стихов – это параноик. Это человек, который неотвязно думает о какой-то важной для него вещи – как тот, кто находится в тюрьме и думает о побеге. Он все рассматривает с этой точки зрения: эта вещь может быть инструментом для подкопа, через это окно можно вылезти, этого охранника можно подкупить. Читатель, который не воспринимает того, что нам кажется сокровищами поэзии, – это просто человек без собственной, параноидальной и почти агрессивной мысли о чем-то лично для него наиважнейшем – как, скажем, мысль о судьбе государства для читателя Горация или мысль о своем Я для читателя романтической поэзии. Чем сильнее в человеке эта мысль, тем более в далеких от него, неясно о чем говорящих или говорящих будто бы совсем не о том текстах он готов увидеть на нее ответ. Нам всем это знакомо по критическим моментам жизни: когда мы ждем ответа на жизненно важный вопрос от врача или от любимого существа, то мы во всем видим знаки: да или нет.