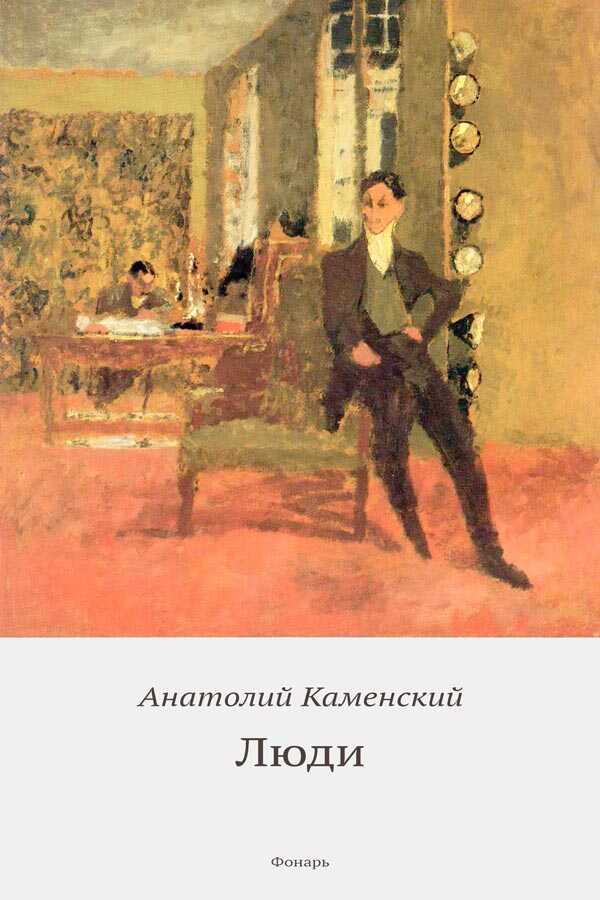Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 30
деда в ПНИ. И был какой-то дурацкий, мутный, может, даже похмельный рабочий день, и не было сил переубеждать. Чуть-чуть не довезли, потом крюком до морга через пробки по гололедице.
Второй молчал долго. Продолжения ждал.
– Не отвечаете мне, – рассмеялся Гранкин. – Ну не отвечайте. Дальше пытайтесь себя оправдывать и жалеть, давайте дальше. Проблемы у него какие – с людьми общаться неинтересно стало! Бедный-несчастный. А сколько говна сам наделал, сколько раз ошибся!.. Никиту помните? Никита умер! У-мер, понимаете? Нет его! А вы глазом не дернули. Еще подумали: хотя бы лечь в отделение не успел, с судом не будет разборок. Так?
Гранкин чувствовал, как теряет мысль, как пытается сказать обо всем и одновременно, а выходит такая же пестрая чехарда, как иной раз у пациентов. Он не знал, что говорить, и пребольно укусил себя за язык, но так и не смог до крови. Это разозлило еще больше.
– Честно, – сказал он, – очень хочется вам морду набить.
Второй хрюкнул:
– «Бойцовский клуб» какой-то.
– Согласен, тупо.
И будто еще хотелось о чем-то сказать, да о чем уже? Неизгоняемая привычка – постоянно пытаться найти оправдание, почему тебе плохо, когда плохо из-за всего сразу и просто так. Как может не быть плохо – настоящий вопрос. Глазам стало горячо до жжения, будто в них опрокинули целую перечницу и что-то попало в нос, на губы и кололо там, сверлило микроскопические дырочки. Гранкин ненавидел плакать – впрочем, как и все остальные проявления себя.
Второй слез с подоконника. Сел на запыленный пол с черточками от подошв и посмотрел снизу вверх так, что все мимические морщины сразу стали глубокими и темными.
– Гера. Ге-ра, – сказал он, а потом ненадолго замолк.
Гранкин заметил, как плохо со стороны звучит его голос – высоко и скрипуче, даже с какой-то раздражающей манерностью, которую он никогда за собой не замечал.
– Двадцать пять лет Гера, – всхлипнул Гранкин замызганным штампом уровня «Кривого зеркала». – Двадцать шесть уже скоро, наверное.
Он не мог определить, какое на дворе время года, и не помнил, какое было вчера. Из окон смотрела неопределимая погода, невнятный грязноватый демисезон, а в коротких перебежках от помещения до такси и обратно температура ощущалась не высокой и не низкой – просто неприятной, входящей в такой конфликт с телом, что под нее не подобрать никакую одежду. Шестого сентября Гранкину полагался день рождения, но календарь в голове рассыпался на отдельные, никак не связанные листочки.
– Ну давайте я вам расскажу, – наконец продолжил Второй. – Все довольно просто, но я понимаю, почему вы не заметили, поэтому никакого осуждения. Рекуррентная депрессия – знаете такую?
– Хуессия.
– Ну не смейтесь, – возмутился Второй, хотя Гранкин и не думал смеяться. – Давайте серьезно поговорим. Рекуррентная депрессия – это у вас. Забавно, что вы не заметили, хотя болеете с детства. И дело тут не в том, что вы какой-то неправильный и перестали ощущать чувства по-человечески – это апатия, вызванная диагнозом. Ничего не хочется, ничего не можется, ни одна эмоция не пробивается через скорлупу. Не мне вас учить.
Звучало как издевательство. Не для того Гранкин распинался, с мысли на мысль перескакивал, пытаясь объяснить всю непроглядность существования, чтобы оказалось, что все вот так просто. Мозг неправильно работает и не те гормончики выплевывает – вот в чем проблема.
– Вы просто не хотите признать, что жизнь, вот как она есть, как она сама по себе устроена, – хуета хует. И томление духа, ага. Просто нет на самом деле ни-че-го, что действительно вызывало бы интерес или хоть какое-то там шевеление в голове. И не было никогда. Остальное – иллюзия.
Второй улыбнулся, снова корча из себя Иисуса, и опять захотелось разбить ему и без того кривой нос.
– Вас, то есть нас с вами, – терпеливо продолжил он, будто тупому ребенку, – растили люди, не умеющие любить. Ну не кривите лицо, вы не выносите банальностей, но сами постоянно к ним возвращаетесь. Некоторые вещи просто невозможно перепридумать, а если перепридумывать, шляпа получится.
– Вот и моя любовь – шляпа. К людям в смысле. – Почему-то Гранкин решил, что это было нужно уточнить.
– Потому что там, где нормальные люди чувствуют любовь, вы чувствуете дырень.
– Размером с Бога?
– Фу. Мы с вами оба знаем, что Бог ни при чем.
Гранкин кивнул. Вспомнилась шутка: говорю с самим собой, потому что приятно поговорить с умным человеком. Только Второй умным не казался, и его непроходимая душность, его доброжелательная монотонность раздражала тем сильнее, чем больше Гранкин узнавал в ней себя.
– И вы как… Ежик резиновый с дырочкой в правом боку, знаете стихотворение? Идете и свистите. Песенка еще была – «По роще калиновой, по роще осиновой на именины к щенку»…
– Вы не умеете петь.
– Ну извините. Не те скиллы прокачивал.
Какая тупость. Какой тупой день – ничего полезного, ничего хоть сколько-нибудь осмысленного или нового за целые сутки.
– В любом случае вы меня поняли, – кивнул Второй. – Люди, которые не умеют любить, причем никого и ничего, включая самих себя, – чего они ожидают от ребенка? Чего мы сами от себя ожидали? Эта дыра в боку – вы же в ней не виноваты. Она просто есть, и никуда от нее не деться. А она почти у всех есть, просто у кого-то чуть больше, у кого-то чуть меньше, а кто-то о ней не думает, но постоянно пытается что-то в нее впихнуть. Вы пытаетесь сами себе доказать, что любите, что сострадаете и всяким геройством занимаетесь, ну и алкоголем сверху шлифуете, чтобы глаже шло… А дело вот в чем: если вы никогда не видели любви, вы и не знаете, какая она должна быть, и придумываете себе всякое. Вот я вам скажу, что есть где-нибудь в Австралии таинственный фрукт с названием из восьми слогов, – вы сможете представить, как он выглядит, как пахнет, какой на вкус, какая у него шкурка на ощупь, какая косточка? Была и сдохла красивая птица додо – изобразите, какие звуки она издавала в брачный период?
И Гранкин представил: сидела красивая птица додо в брачный период у его кровати и стрекотала тихонько, постукивая клювом, – «Застрелись, застрелись, застрелись».
– Да знаю я, как вы гладко стелете. Только срать мне на додо, она далеко, давно и ко мне не относится. Но я прекрасно понимаю, что чувства мои – фейк, оторви и выбрось. Я притворяюсь и притворяюсь, а на самом деле не чувствую ничего. И вы. Вы же меня не любите, я это лучше всех знаю.
– Это вы себя не любите. Между нами принципиальная разница: вы сейчас – пациент, а я – врач. Я вас обязан любить. Работа такая.
От концентрации слова «любовь» Гранкин потихоньку переставал понимать, что оно означает. А может, никогда и не понимал – как и всякий красивый штамп, его затаскали еще до того, как вымерли додо.
– Вы душнила, знаете? Я уже устал с вами говорить.
– Потому что вы боитесь, когда честно. Вам сразу кажется, что вы уязвимости открываете, становитесь нелепым и жалким. А в вашей семье за уязвимости стыдили. Вы просто не привыкли. Вообще не привыкли к любви. Но я вам так скажу: какая разница, что со мной будет, когда я из врача стану обратно человеком? Вот какая разница?
– В смысле какая разница, если это все не по-настоящему?
– Вот это, – Второй крутанул кистью, обводя кабинет, – тоже не по-настоящему. А вы все равно что-то мне рьяно доказываете, будто и правда верите, что сидите в клинике и говорите со своим двойником. Не удивились ни на секунду. Поэтому какая разница, что буду думать обычный я, замученный похмельем, работой и часами в метро до этой самой работы, если у обычного меня и прыщ вскочить может, и не с той ноги я встану, и в магазинной очереди мне нахамят? Как это меняет то, что сейчас я врач и люблю вас искренне, потому что обязан и потому что могу? Я ведь сам захотел. Меня сюда никто под дулом пистолета не провожал. Я захотел любить хотя бы час и собой хотя бы час не быть, а быть кем-то лучше, чем я.
В кабинете погас свет. Как-то сам собой органически погас, и только в полутьме Гранкин понял, как раздражала яркая желтизна. Кабинет выдохнул, расслабляясь, а стены, до того гулкие и шепчущие, замолкли.
– А как
Ознакомительная версия. Доступно 6 страниц из 30