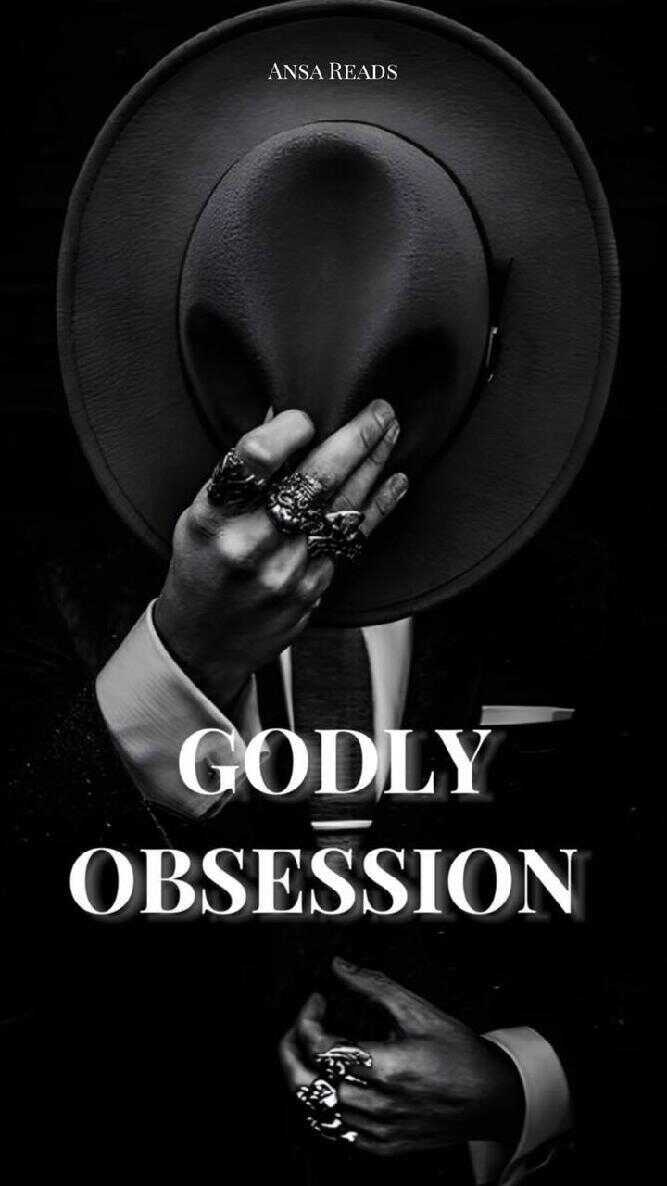опередил его.
— Это письма для заключенных, некоторые от родственников... — его голос затих, когда он услышал стоны, доносившиеся из-за спины Дона. Чад нервно сглотнул, слыша, как Шеф рыдает, словно ребенок, а от грязных слов тюремщика, по коже побежали мурашки. Он замер на мгновение, а затем быстро добавил:
— И-и еще от женщин, к-которым, э-э... нравятся заключенные, что-то вроде л-любовных писем, — выпалил он с нервным смешком. — Таких приходит много, — он сжал стопку писем покрепче и решил, что нужно как можно быстрее убираться подальше.
Чад опустил взгляд на письма, и его внимание привлек коричневый конверт с обгоревшими краями.
— Может, дону захочется немного развлечься, — пробормотал он, заикаясь, и протянул случайное письмо из стопки. Дон мельком взглянул на него, затем взял конверт из рук молодого человека и ответил лишь коротким ворчанием.
Дон повернулся и вернулся в комнату, отказавшись от идеи размять ноги, как планировал, ему уже не хотелось никого видеть. За ним закрыли дверь, и он направился к своему креслу, похожему на трон — подарок от принца Саудовской Аравии, который прислал его в шутку, узнав о его заключении.
Массимилиано сел в кресло и на мгновение задумался, молча рассматривая письмо. Он уже хотел выкинуть его, но почему-то вместо этого положил газету на стол перед собой и открыл конверт. Внутри оказалось два исписанных листа. Он предположил, что это будет очередное письмо от какой-нибудь женщины, признающейся в своей странной одержимости преступниками.
«Женщины — странные создания», — подумал Массимилиано.
Однако его ожидания не оправдались — страницы были написаны не от руки, а напечатаны на машинке. Массимилиано чуть было не поднял бровь от удивления, затем откинулся в кресле и приступил к прочтению письма.
Дорогой незнакомец.
Меня зовут Даралис, но ты можешь называть меня как угодно. Иногда я — Июль, месяц, когда моя бабушка сделала свой последний вдох. Иногда — Дафна, как меня однажды назвала девочка в детском саду, забыв мое настоящее имя. Порой я — Марианна, имя, которое дал мне преподаватель театрального искусства в старшей школе после роли, в которой я сыграла деву с таким именем. Ему так понравилось мое исполнение, что все в классе стали звать меня Марианной. В баре, где я работаю, мужчины называют меня Милашка. А старая леди из дома рядом с баром зовет меня «душистый горошек», каждый раз, когда я прохожу мимо ее дома.
Даралис — это никто и все одновременно. Я есть и в то же время меня нет.
У меня нет чувства идентичности, потому что я не загоняю себя в рамки. Я та, кто я есть, и мне не нужно никому ничего объяснять. Тебе это может показаться нелепым, но я пишу то, что чувствую.
Меня воспитала женщина, которую воспитала женщина, и ее, в свою очередь, тоже женщина. В моей жизни не было мужчин, и я никогда не нуждалась ни в отце, ни в ком-либо. Моя мать не знала, кто мой отец, бабушка не была уверена, кто отец моей матери, а прабабушка не считала нужным говорить, кто был ее отец. Как видишь, история с мужчинами в моей семье передавалось из поколения в поколение.
Думаешь я странная? И моя жизнь такая же? О, незнакомец, я правда странная, но зато такая свободная.
Я поэт, пускай и не очень хороший. Но всё же поэт. Одинокий поэт. Мои слова никогда не рифмуются, и в моих стихах нет определенного стиля, нет причины — только слова, которые имеют смысл для меня.
Мне важно, чтобы всё имело смысл только для меня, и ни для кого другого. Я никто и одновременно все, у меня нет ничего, но весь мир в моих руках. Я танцую на барных стойках и наливаю пиво мужчинам с кольцами на пальцах, чьи глаза блуждают вслед каждой проходящей женщине. Подпеваю с ними под любую звучащую песню, а когда ставлю свою музыку — они лишь закатывают глаза. Расспрашиваю их о жизни, позволяю им утонуть в своей печали, пока наливаю им стакан за стаканом, пока они не потратят последний цент. А когда начинают буянить — их выставляют за дверь, и они уходят, шатаясь, прочь.
Моя жизнь крутится вокруг этого бара, кантри-музыки и дней, когда по телевизору транслируют спорт. Не понимаю, почему все ругают игроков. Хотя мне не нет дела ни до спорта, ни до бара, ни до мужчин — вообще ни до чего, кроме самого существования и жизни день за днем.
Я — хаос, Незнакомец, идеально несовершенный хаос.
Меня мало кто понимает, и я не жду, что ты сможешь. Ты ничем не отличаешься от лиц, которые я вижу в баре, на улице, в торговом центре, да где угодно.
Я не думаю, что ты похож на меня.
Ты «никто», как и я.
Но я хочу оставаться никем.
Так меня воспитали, и, видя улыбки на лицах моей матери и бабушки, я знала, что быть никем — это мое предназначение. Жить без ожиданий, полагаясь на случай каждый день.
Я родилась, чтобы быть никем, потому что моя мать была никем, и женщина до нее была никем, и так было всегда. Это в моей крови.
С любовью,
Одинокий поэт .
Массимилиано закрыл письмо с одной мыслью — «Что за бред?»
Я всегда немного отличалась от других. Знаю, звучит банально. Сколько книг начинались с этих сло...
Я всегда немного отличалась от других. Знаю, звучит банально. Сколько книг начинались с этих слов? Наверняка, вы назвали бы парочку. Но, если честно, я действительно другая. Это выражается не в показном бунтарстве, а в том, что я живу в фургоне, и не строю планы на жизнь. Этот фургон достался мне от мамы — она решила переехать на Гавайи, жить на острове и каждый день проводить у воды, как на бесконечном отдыхе. Она звала меня с собой, но я отказалась. Захотела пойти своей дорогой и каким-то образом меня занесло в маленький городок Вингстон-Каунти.
Жизнь в фургоне — лучшее решение, которое я когда-либо принимала, хотя у меня и не было никогда настоящего дома. Пока мои сверстники росли в домах с кухней, ванной, садом и собственной комнатой, моим домом всегда был этот фургон, на котором я сейчас путешествую.
Благодаря моей маме — общительной и свободолюбивой натуре — мы почти не сидели на месте. Мы всегда были в движении, проводили много времени на природе, бегали по