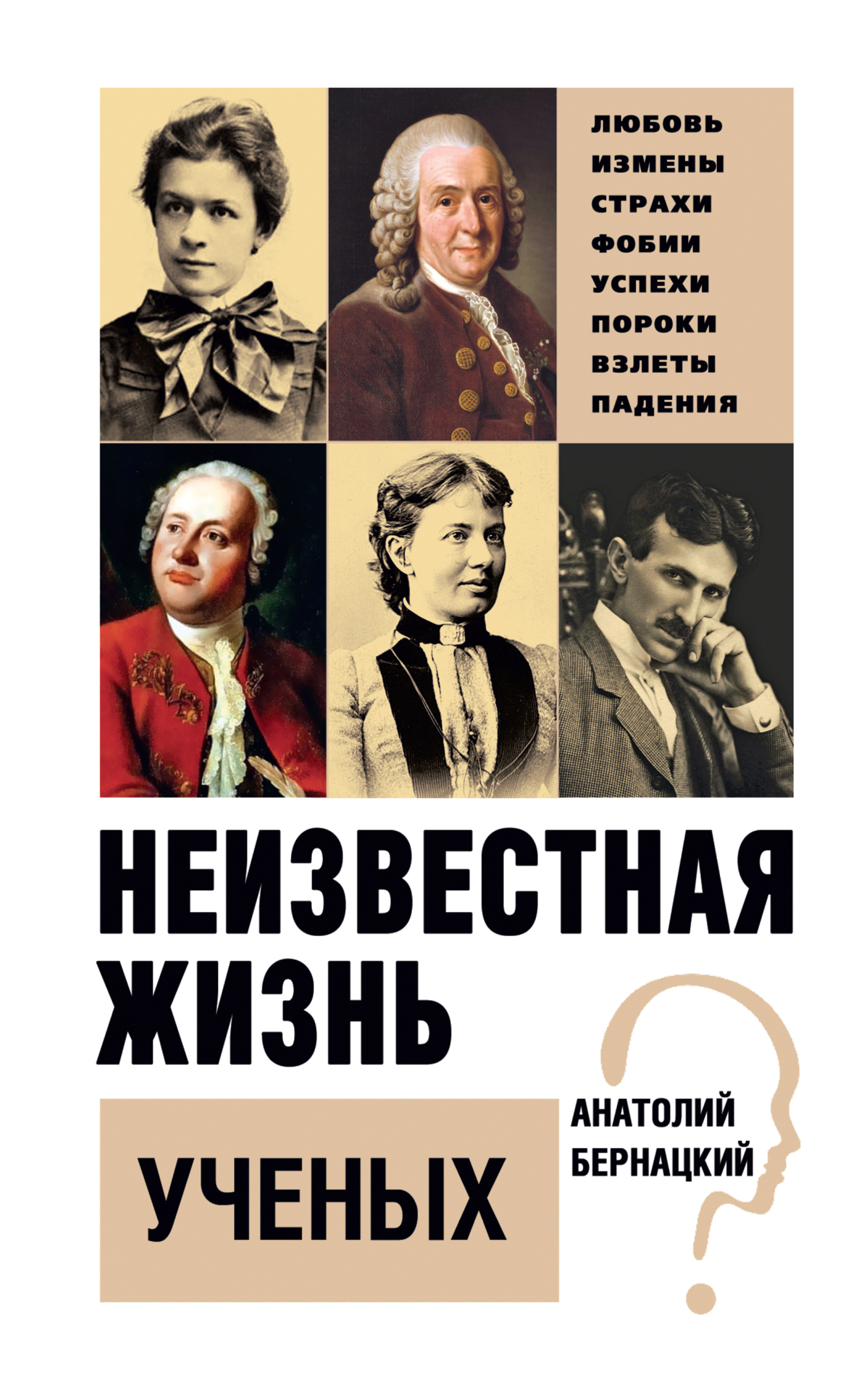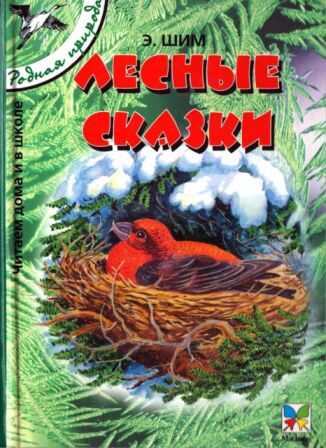от реки Окштомки, что вытекала из озера не очень глубокой водой. Если пробиться через завалы и переборы, то лодка обязательно попадет из Окштомки в другие полноводные реки, в другие большие озера и наконец увидит волны Балтийского моря… По речке Окштомке и заходили в тайгу косяки леща. Упрямые, сильные рыбы поднимались в Окштомское озеро, по Долгому ручью попадали в Долгое озеро и даже добирались до Тимкова и Верхнего…
Верхнее было самым высоким среди лесных озер, но не последним. По ту сторону водораздела в глубокой низине, уйте, лежало еще одно, немалое Елемское озеро… Елемское озеро, как и Окштомское, уходило из тайги неглубокой речкой, но эта речка несла свои воды уже к другому, Белому морю… Пожалуй, ловкие на выдумку и быстрые на дело лесные старики не собирались открывать путь лещу с запада на север, они рассуждали проще: в Верхнем есть хорошая, вкусная рыба, а в Елемском леща нет; а что, если поднять в Елемском озере воду и прокопать из него в Верхнее небольшой канал?
Я слышал этот рассказ в самых разных вариантах. Одни связывают историю леща, который прошел из Верхнего озера в Елемское и по реке Елемце отправился богато заселять последующие водоемы, с именами неугомонных стариков; другие появление хиленького канальчика и тщедушной плотины объясняли требованием лесосплава, который когда-то шел по этим озерам. Но так или иначе «Великий путь» с запада на север через заонежскую тайгу был открыт намного раньше, чем Беломорско-Балтийский канал.
К сожалению, путь оказался обходным и слишком мелким для приличных судов. Канал давно зарос, буреломы давно загородили лесные ручьи и речки страшными завалами, и теперь только карта могла рассказать о том, какие страны встретил бы незадачливый капитан, рискнувший пробиться с берегов Невы в Белое море через лес…
В начале пути первопроходца вряд ли встретили бы какие-то неожиданности: Ладожское озеро, Онежское, потом знаки лоции указали бы голубую дорогу Волго-Балта. Дальше — бассейн Белого озера, а оттуда на север и начался бы самый трудный в истории России волок… Пожалуй, до Долгого озера этот капитан уже не довел бы свое судно.
К Долгому озеру человека может привести только тропа. Эта тропа и указала мне путь к бараку на берегу хмурого лесного озера. Барак я называл избушкой. Передняя часть строения давно рухнула, давно упала большая часть крыши, и теперь для рыбаков и охотников оставались только клеть сруба, потолок, крошечное окошечко в тайгу, неширокие нары и глиняная печь, дым из которой выходил прямо в избушку. В этой избушке я и провел весну и лето второго года жизни в лесу.
Весна и лето не принесли особой удачи, и теперь, к осени, я перебирал в памяти все озера, на которых можно было продолжить рыбный промысел до глубоких холодов. Окштомское, Тимково, Верхнее, Елемское были такими же летними озерами, но дальше в тайге оставалось и жило пока без меня еще одно интересное озеро.
У этого озера было свое официальное название. Рассматривая карту, я невольно приходил к выводу, что это название, наверное, не могло родиться в лесу. Казалось, какой-то случайный человек, рисовавший карту и никогда не видавший самого озера, просто взял и пометил голубой кружочек первым словом, которое пришло в уставшую от бумажных трудов голову. Слово, которым пометили озеро, не звучало.
Здесь, в лесу я привык к ясным и живым именам, которые местные жители давали воде, камню или дальнему выпасу… Шилово, Сухой Мыс, Черная лахта, Концезерье, Пустошь, Долгий ручей — все это жило рядом с человеком. Шилово означало острый, как шило, мыс на Домашнем озере, на том озере, где стояла деревня и куда возвращался рыбак после долгого и трудного промысла на отхожих озерах. Рыбак выходил из леса и по первому пустому, безлесному месту, по Пустоши, узнавал, что до Домашнего озера теперь совсем близко. Лодка ждала рыбака в конце озера, в Концезерье. Потом послушное суденышко миновало глубокую Черную лахту — залив, огибало Сухой Мыс, длинную, поросшую тростником отмель, и человек, уставший от многих дней волны и ветра, прокоптившийся в курной избушке, наконец видел свой дом. Дома ждали тепло и чистая постель. День, другой, третий — рыбак наводил порядок в хозяйстве и снова собирался пойти, отойти от Домашнего озера туда, где ждали его в тайге другие, отхожие озера, где были избушка, утлая лодчонка и где на этой лодчонке можно отправиться еще дальше по какому-нибудь Долгому или Кривому ручию…
В лесу ручей действительно называют «ручий». Если сразу же после снега тихо пойти по лесной тропке, пойти тогда, когда богатая от весны вода поет звонче и ярче, и ненадолго задерживаться у каждой весенней воды, то обязательно услышишь, что лесной «ручий» совсем не похож на тот ручей, который сиротливо пробирается между камнями мостовой. Лесной «ручий» не сирота среди камня, возведенного человеком, ему вовсе не надо, выискивая себе дорогу, одиноко вскрикивать около каждого подвернувшегося булыжника: «Ручей, ты чей?» Может быть, поэтому у лесных жителей и не было особой необходимости давать своему певучему ручию иное, городское имя.
Ручий, а не ручей — было понятно мне. Сложней приходилось с именами небольших лесных озер. Каликино, Красово, Гусельное. Я не мог сразу объяснить себе происхождение этих названий, долго всматривался в берега и глубины каждой загадочной воды, чаще сразу ничего не находил, но с каждой следующей тропой все больше и больше убеждался, что других имен для этих озер и нельзя было придумать.
Красово было красивым, задумчивым озером. Высокий еловый берег плавной дугой обводил его густо-черную воду… Каликино же не отличалось особой привлекательностью и было скорее всего захудалым, неудачным озером, прижившимся у низких болотистых берегов… Зато Гусельное действительно могло петь. Светлые, легкие берега не мешали спокойно и широко разойтись во все стороны чистой и легкой воде. И мне казалось, что эта вода не остановилась около берегов, а незаметно поднялась вверх и поплыла над березами и елями настоящей лесной песней. И эта песня была тихой и ласковой, но в то же время таинственной и глубокой, как само Гусельное озеро…
Не знаю, может быть, человек, давший имена этим озерам, думал совсем по-другому, но эти имена пришлись кстати. А может, и сами имена заставили меня посмотреть на лесные озера иными