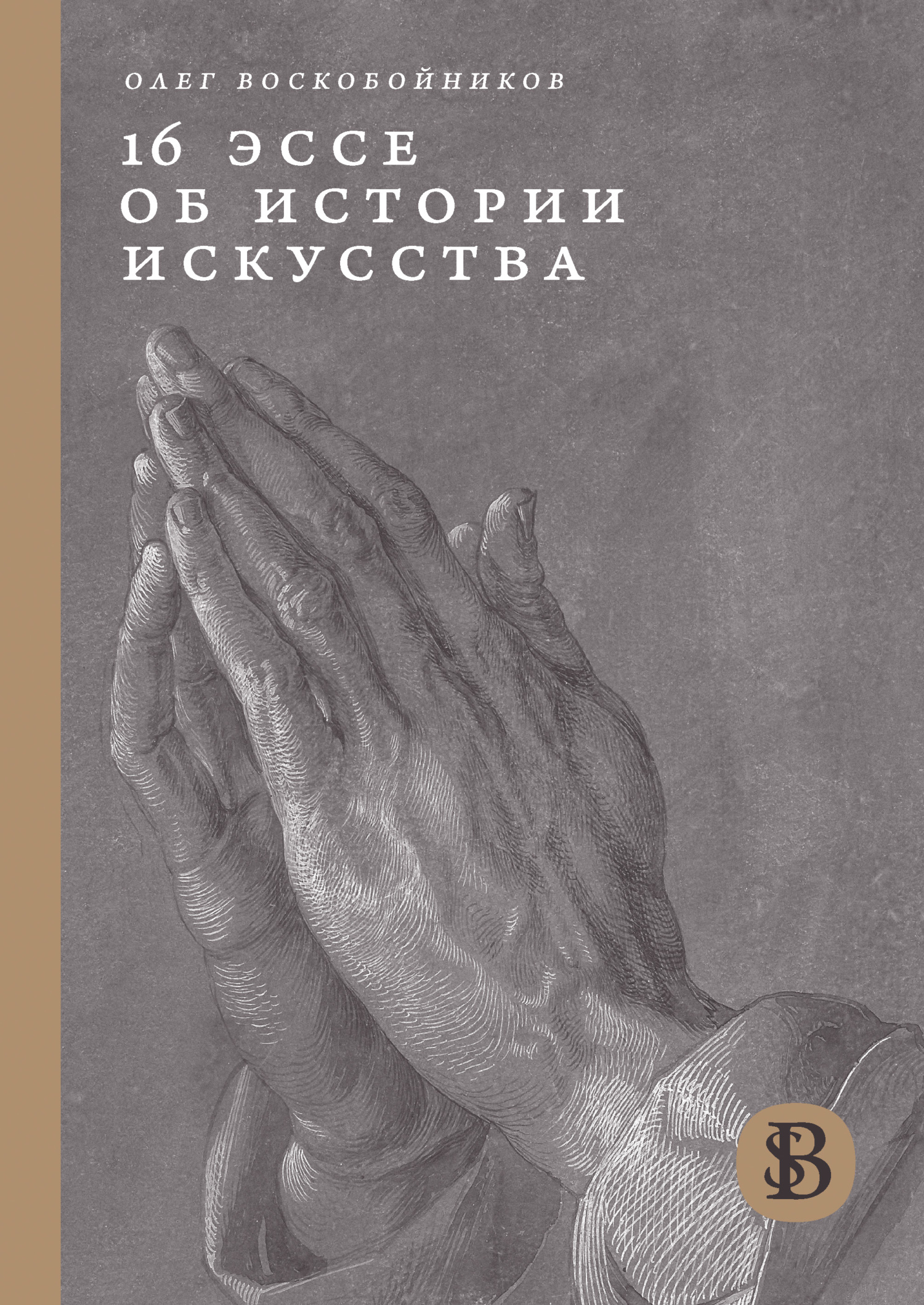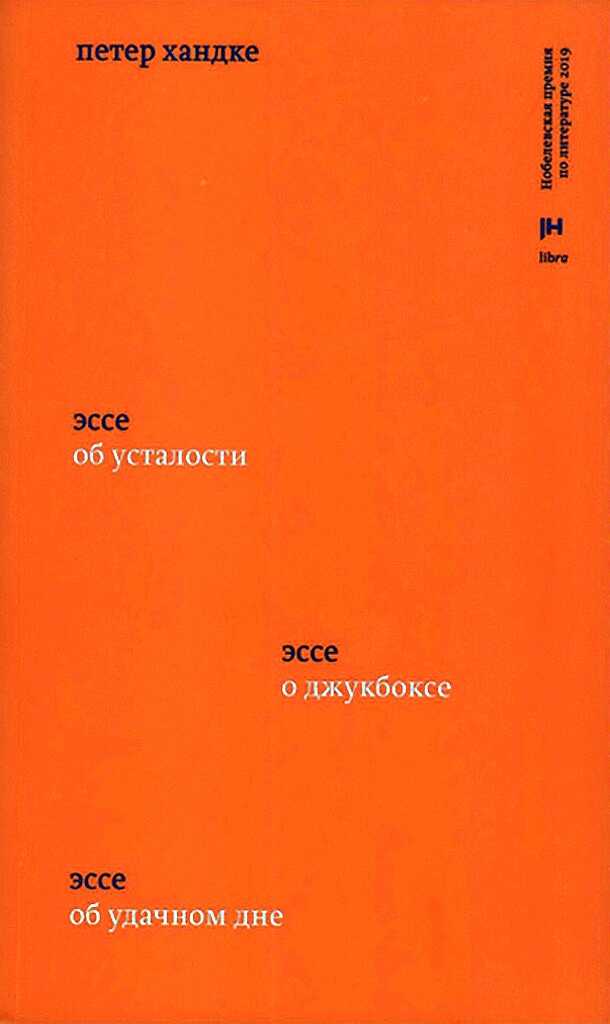менее территориальной. В полях полосами были отмечены владения каждого крестьянина, в то время как в больших и малых городах каждая улица и анклав, каждый рынок и водный путь находились под контролем определенных церковных или светских властителей.
Тринадцатый век был как раз периодом расширения пахотных угодий, когда многие маргинальные земли подверглись огораживанию, чтобы увеличить доходы знати [10]. Контроль и кодификация пространства, представленного маркированными территориями центробежной круговой карты мира, по необходимости создавали пространство для вытеснения всех нежелательных элементов – изгнанных, объявленных вне закона, прокаженных, чесоточных изгоев общества [11].
Хотя эти края были опасны, они также являлись местами силы. В фольклоре промежуточные места – важные зоны преображения. Кромка воды была местом, где открывалась мудрость; духи изгонялись в никуда «между пеной и водой» или «между корой и деревом». Точно так же временные переходы между зимой и летом или между ночью и днем были опасными моментами соприкосновения с Иным миром. В заговорах и загадках вещи, представляющие собой «ни то ни сё» и нарушающие классификацию, несли сильную магию. Отверстия, входы и дверные проемы – как зданий, так и человеческого тела (в одном среднеанглийском медицинском тексте есть упоминание о лекарстве, разъедающем «края кожи») – были особенно важными лиминальными зонами, которые требовалось защищать.
Большая часть изобразительного искусства, дошедшего до нас от раннего Средневековья, предназначалась для Бога. Все остальное происходило от лукавого. В письме, написанном Архиепископу Кентерберийскому в 745 году, святой Бонифаций жаловался на
эти узоры в виде червей, кишащих на краях церковных облачений; они провозглашают Антихриста и внедряются его коварством и через его служителей в монастыри, дабы возбудить распутство, разврат, постыдные дела и отвращение к учению и молитве [12].
В почти современной этим словам Келлской книге, составленной монахами на острове Айона, змеи не только были допущены на края, но и Слово Божие само стало «пристанищем драконов»[2]. На странице знаменитой Монограммы Христа «Хи-Ро» три греческие буквы, обозначающие имя «Христос», образуют визуальные загадки и магические узлы, края которых населены кошками, мышами и выдрами в космологическом образе сотворенной Богом Вселенной как Слова (илл. 3).
Илл. 3. Монограмма Христа «Хи-Ро». Келлская книга. Тринити-колледж, Дублин
Под верхним левым плечом большой литеры «X» встречаются два мотылька, их крылья трепещут и кажутся прозрачными на фоне металлических завихрений кельтского орнамента. Василий Великий описал выход мотылька из куколки как символ преображения души через воплощенный Логос. Для монастырских мастеров и читателей Келлской книги мир природы должен был интегрироваться в духовную медитацию и противопоставляться ей [13]. Напротив, бабочки, порхающие по краям часослова Маргариты XIV века, служат эмблемой зыбкой фантазии, несущественной пустоты. Больше не запертые, как на странице Келлской книги в христологической головоломке, эти насекомые – паразитические чудачества за пределами текста. В то время как в Келлской книге Слово и мир сакрально переплетены, здесь они противостоят друг другу как центр и периферия, как читаемое и отвлекающая внимание граница. Таким образом, в раннем Средневековье изображения бытовали не по краям, а внутри самого священного Слова.
Конечно, периферия письменной страницы существовала и в более ранние периоды, и на ней даже размещались изображения как в византийских, так и в англосаксонских Псалтирях X века, где на боковых полях встречались иллюстрации к текстам, нередко сложные. Но это внетекстовое пространство развилось в пространство художественной выразительности только тогда, когда идея текста как письменного документа вытеснила идею текста как подсказки для устной речи. Монашеский метод чтения, называемый «meditatio», заключался в том, что каждое слово произносилось вслух, буквально пережевываясь и перевариваясь для запоминания [14]. Расположение страниц, даже разделение слов не имело большого значения в этой системе, поскольку Слово всегда произносилось. Буквы могли становиться проводниками чистой фантазии, яркими сигналами начала и окончания, так как от них не требовалось быть читаемыми в нашем понимании этого термина. Эта сосредоточенность художественной игры на самом тексте сохранялась вплоть до XII века.
Ранний пример того, как художник выталкивает репрезентацию за пределы буквы, можно найти в большой Библии Аббатства, проиллюстрированной для монахов аббатства Св. Эдмунда примерно в 1130 году профессиональным художником, мастером Гуго. Этот пример появляется в самой первой букве книги, «F» («Frater Ambrosius» – «Брат Амвросий»), которой открывается не сам священный текст, а предисловие Иеронима, что, возможно, объясняет вольность художника (илл. 4). На левом краю клубящейся органичной буквы изображены кентавр, человек с деревянной ногой, пытающийся стричь ножницами зайца (народная загадка) и сирена с рыбьим хвостом. Кентавр и сирена – пережитки классического изобразительного словаря, использовавшегося в иллюстрированных свитках античного искусства и позже демонизированного в христианской иконографии. Загадка о зайце, записанная лишь столетия спустя, – удивительный пример вторжения устной народной культуры в монастырь. Серло Уилтонский и другие англо-нормандские священнослужители того периода известны как собиратели народных пословиц, или, как они их называли, enigmata rusticana («сельские загадки»), использовавшихся в упражнениях по переводу на латынь [15]. Стрижка зайца есть adynaton, невыполнимая задача. Что это, живописный комментарий к трудностям самого чтения, уяснения смысла библейского текста? Как и во многих рукописях, наиболее примечательно то, что находится внизу страницы. За пределами нижней рамки полуголый мужчина с корзиной стоит на цветке и тянется, чтобы сорвать другой цветок. Ответвления Слова начинают образовывать свободно парящие, своевольные очаги самостоятельной жизни.
Илл. 4. Сельские загадки на краю Логоса. Библия из Бери-Сент-Эдмундс. Колледж Тела Христова, Кембридж
С ростом как религиозной, так и чиновничьей грамотности, а также с появлением новых методов организации и анализа текста во второй половине XIX века оформление страницы, или ordinatio текста, вытеснило монашескую meditation [16]. Теперь подчеркивалась физическая материальность письма как системы визуальных знаков. Этот переход от произнесения слов к видению слов имеет основополагающее значение для развития маргинальных образов, потому что, как только буква приобрела узнаваемость как элемент считываемой системы визуальных единиц, это ограничило возможности ее деформации и игры с ней. Больше не участвуя в образовании буквы, репрезентации либо входят в ее рамки, образуя так называемые буквицы, распространенные в готических рукописях, либо вытесняются в неуправляемое пустое пространство по краям – традиционное место для глосс.
Аннотация и происхождение маргинального искусства
Слово «глосса» означает «язык» (lingua), потому что оно как бы проговаривает (loquitur) значение слова под ним [17].
Как рассказывает нам Гуго Сен-Викторский, глоссы XI и XII веков часто были подстрочными. Втиснутые между строками текста, они «говорили» те же слова, только на другом языке, как,