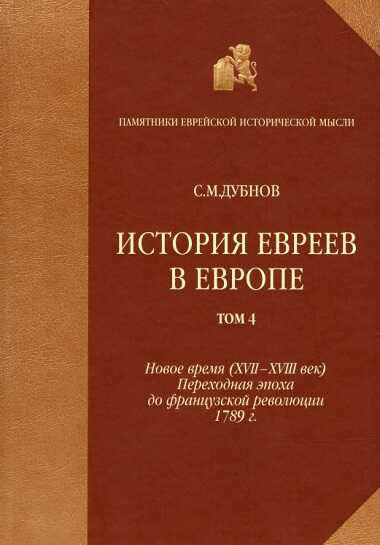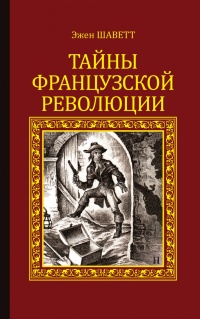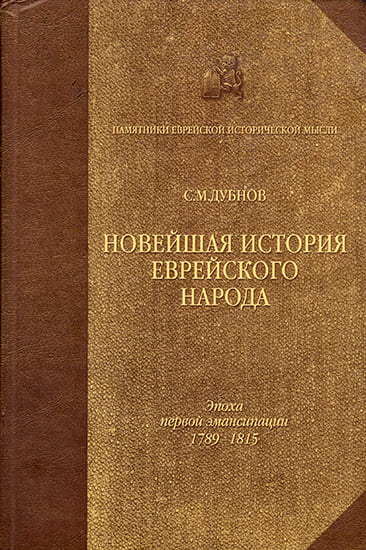во Франции, так и в англоязычных странах, мы хотели бы предложить подход, способный поставить на обсуждение, а то и оспорить это выражение, и говорить уже о «терроре», а не о Терроре, чтобы уйти от последнего в пользу других смыслов самого понятия и, главное, иных возможностей анализа тех событий.
Это ни в коей мере не говорит о нашем желании приуменьшить или смягчить восприятие насилия революционного периода, находя для него оправдания или вводя – в духе сегодняшнего дня – доминировавшее некогда понятие «обстоятельств», будто бы принуждавших революционеров прибегать к «террору» ради выживания Республики. И все же, отчасти рискуя отойти от историографических представлений, питающихся идеологической полемикой и исторической наукой (где Террор понимается как матрица тоталитарных режимов XX века), мы считаем фундаментально важным начать наше исследование с так называемого Термидора, а не с гипотетической даты предполагаемого отсчета эпохи Террора и не с его более-менее отдаленных истоков.
Дело в том, что в конце термидора и во фрюктидоре II года (конец июля – середина сентября 1794 года) победители Робеспьера распространяют мстительные тексты, имеющие целью заклеймить позором поверженное «чудовище», а также снять с Национального конвента коллективную ответственность за законы, позволившие прибегнуть к суровым мерам против его противников. Так зарождается представление о «системе» или «политике», якобы развязавшей «террор»: вся вина взваливается на Робеспьера и его соратников, а весь «инцидент» объявляется исчерпанным с его устранением в Термидоре. Не довольствуясь этой амнистией для самих себя, они утверждают, что «террору» наступил конец, хотя продолжают пользоваться механизмами чрезвычайной политики, постепенно учреждавшейся в 1793 году и названной в октябре того же года «революционным правительством», прибегая в том числе к репрессиям и к государственному насилию.
Тезис о конце Террора после 9–10 термидора долго преобладал в историографии, умаляя рикошетом насилие III года и Директории, а также подталкивая историков к поиску одной даты или серии дат, с которых можно было бы отсчитывать Террор и обнажать более глубокие его корни. Убеждение, что Террор был запущен Конвентом в сентябре 1793 года, идет рука об руку с представлением о «системе», уничтоженной в Термидоре, хотя Конвент никогда не принимал декретов о его запуске. Надо ли в таком случае искать начало этого «террора» весной 1793 года, в январе того же года, когда был казнен король, в августе 1792 года, когда была свергнута монархия, еще раньше? Все это бесполезно, потому что, как мы считаем, «террор» не может и не должен рассматриваться как хронологическая последовательность, имеющая начало и конец. Как подчеркнул историк Хаим Бурстин, упорствовать в поисках даты зарождения Террора (он называет этот поиск «одним из любимых упражнений историков») – это ложный путь, нечто вроде откапывания «первородного греха Революции» или того момента, когда она «ступила на ложный путь», как выразились однажды Франсуа Фюре и Дени Рише[8].
«Террор» – слово, получивший широкое распространение пароль, политический концепт, тема горячих споров и теоретических обоснований, процесс, но также – и в особенности – явление, пропитавшее Революцию и революционеров. Чтобы лучше его осмыслить, не следует ограничиваться его насильственными проявлениями и тем более считать политическим исключением, допущенным осенью 1793 года революционным правительством, хотя первые шаги были сделаны еще весной. Нарастающая тяжесть страхов и эмоций, постоянное обострение столкновений и параллельная радикализация репрессивного законодательства, накал политической борьбы в Конвенте и вокруг этого третьего по счету революционного Собрания – все вместе в значительной степени поспособствовало зарождению, развитию и поддержанию «террора». Связанное с чрезвычайщиной, возникшей параллельно с конституционными полномочиями властей (после 10 августа 1792 года были частично сохранены институты, появлявшиеся начиная с 1789 года), это явление характеризовалось, естественно, собственным ритмом, собственной логикой, географией, результатами, всем комплексом свойств, из-за которых его никак нельзя считать «системой», единообразно возобладавшей на всей территорией страны.
1
Террор – понятие, навязанное термидорианцами
Одно из первых сочинений, ознаменовавших лобовую атаку на Великую французскую революцию, было опубликовано в 1790 году англо-ирландским автором и заодно депутатом лондонского парламента Эдмундом Бёрком. Называлось оно «Размышления о революции во Франции». Быстро появились переводы книги с английского на французский и на многие другие языки[9]. Некоторые увидели в ней нечто вроде пророчества о Терроре, так как она клеймит насилие 1789 года, в том числе убийство двух королевских телохранителей в революционные дни 5 и 6 октября, сравнивая толпу, хлынувшую в Версаль, чтобы отыскать там короля, с «процессией американских дикарей, врывающейся в Онондагу после убийств, которые они называют своими победами, и уводящей к себе в хижины, обвешенные черепами, своих пленников»[10]. Более того, Бёрк употребляет само слово «террор» и описывает Учредительное собрание как сборище депутатов, повергаемых в дрожь насилием простонародья: «Неоспоримо, что, страшась террора штыка, фонаря и факела, грозящего их очагам, они вынуждены утверждать свирепые и неудобоваримые меры под диктовку обществ, где чудовищно перемешаны все сословия, все языки и все нации»[11].
Обвинение настолько преувеличено, а сравнения с английской «Славной революцией» XVII века настолько манихейские, что Томас Пейн, другой британский автор, несколькими годами ранее ставший политическим сторонником восставших американских поселенцев, дает на них хлесткий ответ в своей книге «Права человека», изданной в начале 1791 года и уже в мае переведенной на французский язык. Он тоже пользуется словом «террор», но с совершенно другой целью. Он подчеркивает, что насилие 1789 года можно понимать только как ответ на жестокие казни Старого порядка, на пережитый ужас, который вызывает новый «террор»: «Власти желают воздействовать через “террор” на нижайший класс народа, и на этот же класс эти средства производят самое дурное действие. Этим людям хватает здравомыслия, чтобы понять, что это им демонстрируют казни, и сами они воспроизводят примеры террора, к которым привычен их взор»[12]. К этому рассуждению, где уже выдвигается идея способности пассивного (испытываемого) «террора» превращаться в «террор» активный, мстительный, Пейн присовокупляет мысль о необходимости обучать гуманности власти, прежде чем требовать ее от черни. Совершенствуя свои доказательства, он напоминает о жестоком зрелище казни Дамьена, четвертованного живьем в 1757 году по обвинению в цареубийстве, которого он не совершал и в намерении совершить которое не сознался даже под пыткой, и приходит к выводу, что правительствам негоже «править людьми так, при помощи страха», напротив, следует «убеждать их доводами разума»[13].
Между тем год спустя, в конце июля 1792 года, вскоре после свержения конституционной монархии, Робеспьер, обращаясь к теме связи между «террором» и дурным управлением, тоже отождествляет «террор» и деспотизм: «Монтескье говорил, что добродетель – принцип республиканского правительства,