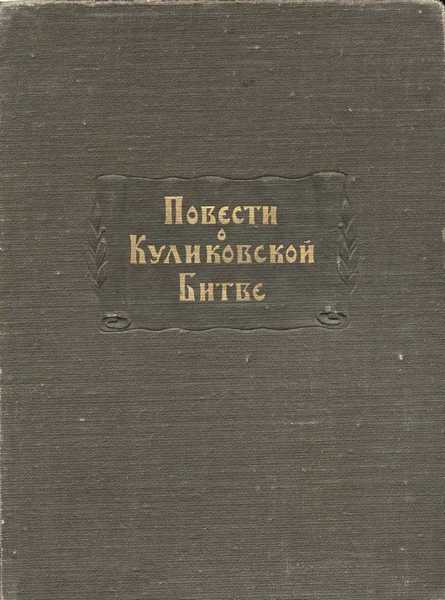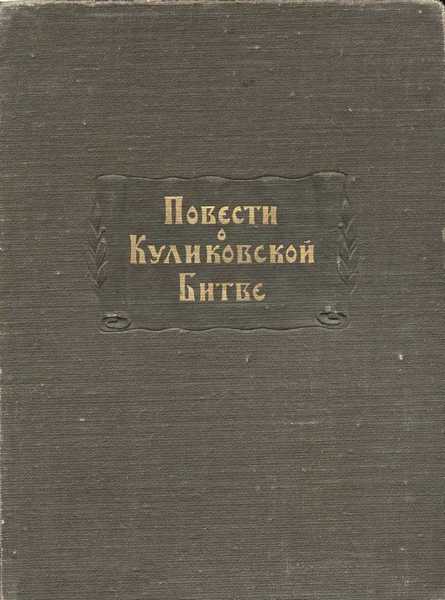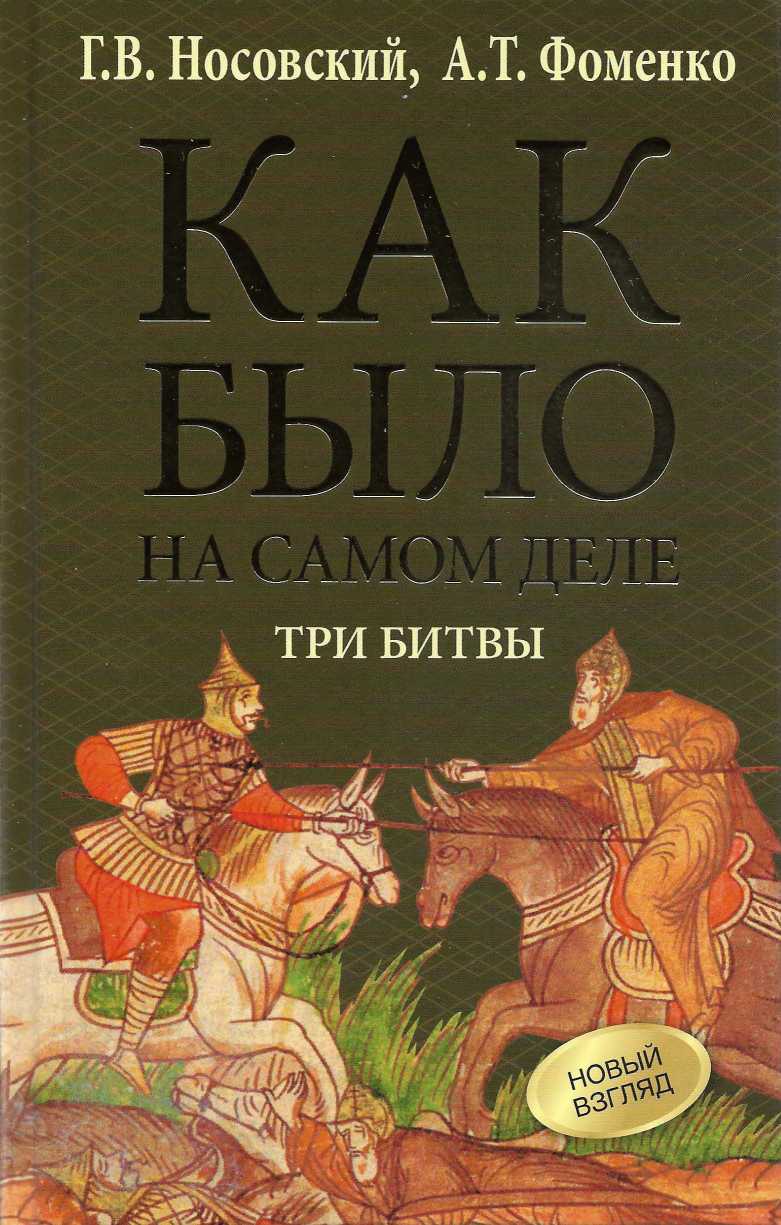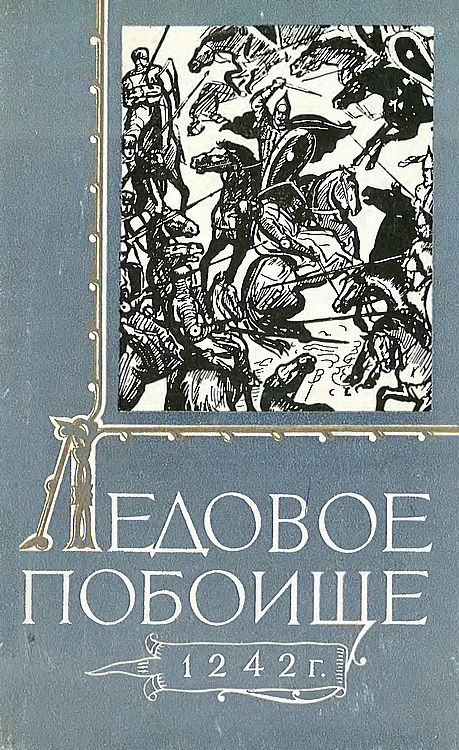даже саман крупная по площади и численности населения генуэзская колония в Причерноморье не могла позволить себе собрать значительный (исчисляемый тысячами) корпус для отправки его на помощь Мамаю.
Вычисленная выше гипотетическая численность воинского контингента Каффы косвенно подтверждается письменными источниками. Так, например, А. Л. Пономарев в той же статье с иронией отмечает: «Под стать размерам города были и масштабы предприятий. Появившихся на побережье венецианцев берут в плен два десятка ополченцев, для обороны крымских владений коммуна направляет аж целое войско из тринадцати всадников, неприступность первоклассной крепости в Судаке обеспечивает гарнизон из нескольких десятков наемников, а крупнейшим военным предприятием становится экипировка в 1380 г. двух галей, с которыми уходят полторы сотни кафиотов, галей, экипажи которых патронам приходится доукомплектовывать в Симиссо и в Пере»[34]. К материалам Массарии также обращается В. Л. Мыц, обнаруживший там среди записей за 1374 г. список официалов, интендантов, огузиев (легких всадников, вероятно, нанимавшихся из местного населения) и социев (наемных солдат) крепости Чембало (Балаклава) — всего 36 человек[35]. В 1381 г. гарнизон Чембало состоял из 20 человек во главе с комендантом[36]. Известен также состав гарнизона в 1386 г.: не считая гражданских лиц, в него входили 2 стража ворот, 2 огузия и 26 солдат-социев под командованием коменданта[37]. В Солдайе (Судаке) несли службу трое привратников, охранявших крепость и внешние ворота, от 4 до 6 огузиев[38], по-видимому, составлявших военный эскорт консула, и несколько десятков солдат-социев. Также возможно проследить динамику изменения численности гарнизона в Солдайе, которая была обусловлена политической ситуацией на полуострове: в 1376 г. — 42 человека, в 1381 г. — 80 человек, в 1382 г. — всего 12 человек, в 1386 г. — 60 человек[39]. В Симиссо (Самсуне) в 1374 г. на службе находилось всего 9 наемников, в 1381 г. их число выросло до 40 человек, а в 1386 г. — до 45 человек. В самой же Каффе гарнизон состоял 65 солдат-социев в 1374–1375 гг., но к 1386–1387 гг. количество солдат значительно увеличилось — до 236 человек. Креме того, в 1381 г. из Каффы было отправлено 92 арбалетчика для усиления гарнизона Солдайи[40]. Причиной такого заметного скачка в численности генуэзских контингентов на территории Крыма, несомненно, была война Кьоджи 1378–1381 гг.
Помимо бухгалтерских книг Массарии, в нашем распоряжении есть еще один генуэзский источник отнюдь не нарративного характера — «Устав для генуэзских колоний в Черном море», изданный в Генуе в 1449 г. Именно к этому законодательному источнику предлагает обратиться Р. Ю. Почекаев, чтобы составить относительно полную картину численности воинских контингентов в генуэзских колониях на территории Крыма. Стоит оговориться, что от событий 1380 г. данный документ отстоит почти на 70 лет. Несмотря на это, он сохраняет большую ценность, и цифры, которые сообщаются в нем, могут быть экстраполированы на эпоху Мамая, т. к. сообщения имеющихся аутентичных источников крайне отрывочны. Согласно «Уставу», гарнизон Каффы должен был состоять из 20 стражников (служителей пристава), 20 огузиев с капитаном, а также капитана со стражем на двух воротах и стража с солдатом в башне св. Константина[41]. В Солдайе охрану стен и порядок в городе обеспечивали пристав, по два караульных у ворот, восемь огузиев, 20 наемных солдат-баллистариев с подкапитаном и два подкоменданта (в крепости св. Ильи и крепости св. Креста) с четырьмя и шестью солдатами соответственно[42]. Также сообщается о гарнизоне в еще одном важном форпосте генуэзцев в Крыму — в крепости Чембало. Там в состав гарнизоне входили 40 солдат-баллистариев, 4 огузия, подкомендант со своим служителем и семью солдатами в крепости св. Николая, а также пристав с тремя служителями[43]. Таким образом, «Устав…» наглядно демонстрирует, что в генуэзских колониях на службе находились крайне небольшие воинские контингенты, сил которых хватало только для поддержания порядка и решения узко локальных боевых задач, а не многочисленные и слитные отряды пехоты, как их представляют себе сторонники «генуэзского мифа».
Рассмотрев и проанализировав источники генуэзского происхождения, следует перейти к главному источнику «мифа о генуэзцах» — а именно, к древнерусским летописным свидетельствам о Донском побоище. Упоминания фрязов[44] содержатся в двух повествованиях о битве: в т. н. летописном рассказе[45] в составе Рогожского летописца (далее — Рог.)[46], Симеоновской летописи (далее — Сим.)[47], Белорусской I летописи (далее — Бел. I)[48], в пространной «Летописной повести» в составе Софийской I летописи (далее — СIЛ)[49], Новгородской IV летописи (далее — НIVЛ)[50]. Тексты рассказов Рог. и Сим. крайне близки, поэтому их обозначают как Расск. Рог.—Сим.[51] Вопрос о взаимоотношениях Расск. Рог.—Сим. и «Летописной повести» вызывал острые дискуссии вплоть до публикации статьи М. А. Салминой[52], благодаря которой утвердилось мнение о первичности летописного рассказа в составе Рог.—Сим. относительно «Летописной повести» и именно Расск. Рог.—Сим. был признан старейшим повествованием о Куликовской битве[53]. Не менее дискуссионным является вопрос о происхождении статей 1380 г в составе Рог.—Сим. Исследователи справедливо полагают, что данным сообщениям предшествовали не дошедшие до нас памятники как летописного, так и не летописного происхождения[54]. Повествование Рог.—Сим. возводится к своду 1408 г., который отождествляется со сгоревшей в 1812 г. Троицкой летописью (далее — Тр.)[55]. Из свода 1408 г. рассказ был с небольшими изменениями включен в свод 1412 г. и, соответственно, дошел в составе Рог.—Сим. Также к своду 1408 г. восходит редакция рассказа в составе Белорусской I летописи[56].
Особый интерес вызывает статья Л. В. Соколовой о происхождении и взаимоотношениях летописных повествований о Куликовской битве[57]. Рассматривая вопрос о последовательности возникновения летописных памятников, Л. В. Соколова приходит к ряду выводов, основанных на комплексном текстологическом анализе данных источников. По мнению Л. В. Соколовой, наиболее ранним повествованием о Куликовской битве была краткая заметка под 1380 г. в составе московской летописи, завершавшейся известием о 1392 г. (данный свод был отождествлен А. А. Шахматовым с «Летописцем великим русским», далее — ЛВР[58]). Она дошла в составе Московско-Академической летописи (далее — МАк.)[59] рубежа XV–XVI вв., рассматриваемая часть которой, по мнению Я. С. Лурье, восходит через ростовский свод 1419 г. к протографу Троицкой летописи (т. е. своду 1392 г. — ЛВР)[60]. Согласно Л. В. Соколовой, параллельно с заметкой была создана внелетописная воинская Повесть о Куликовской битве, являвшаяся публицистическим произведением. Затем при составлении рассказа в своде 1408 с (Тр.) летописцем в качестве основы была использована заметка из ЛВР, текст которой был дополнен фрагментами из внелетописной Повести. Текст рассказа из свода 1408 г. с незначительными изменениями вошел в свод 1412 г., послуживший протографом для Рог. и