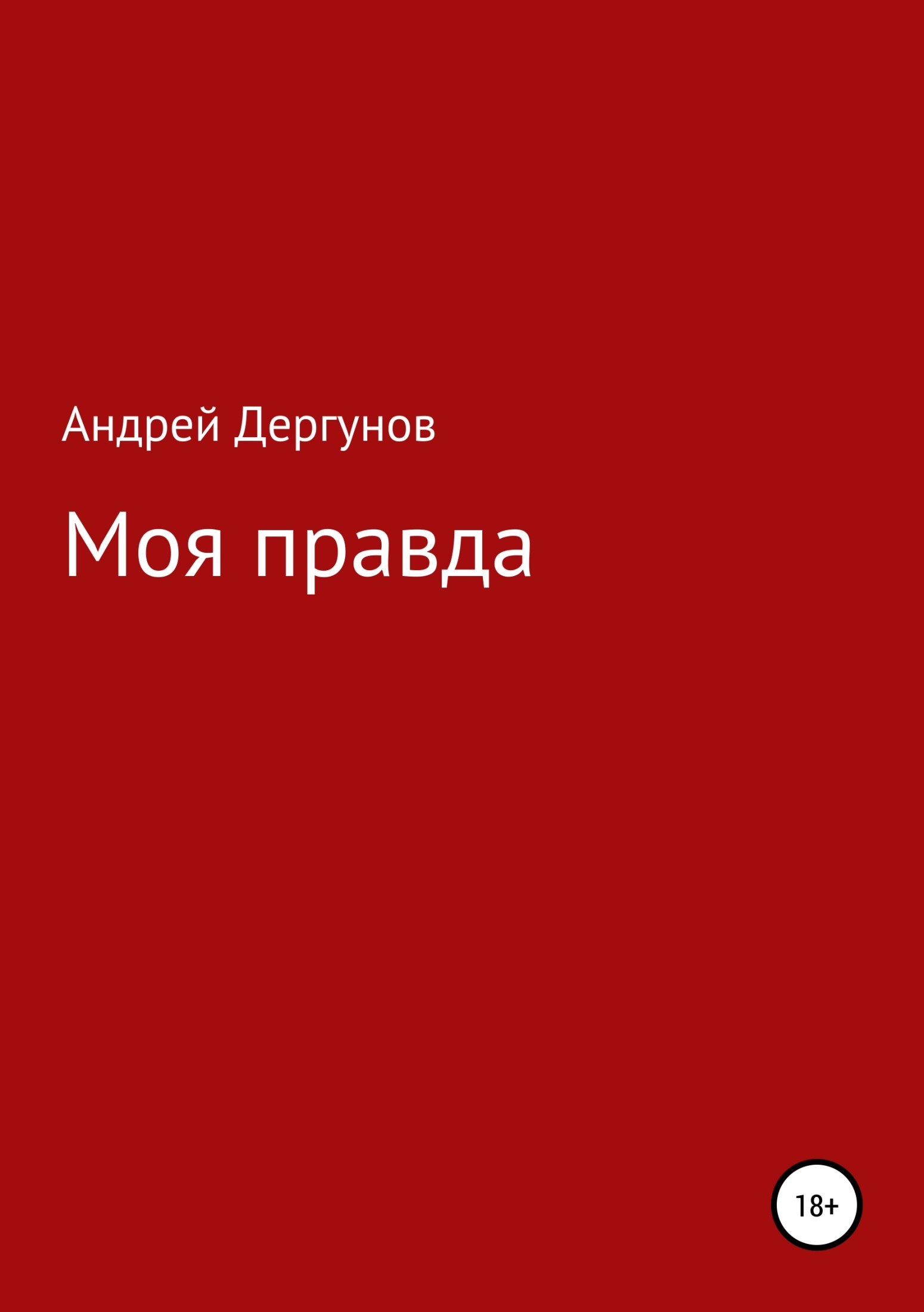и ничего!
– Комбат! – крикнули подполковнику. – Комбат, фрицы идут!
«Фрицами» здесь называли тех, кто был по ту сторону огня.
Токаренко чертыхнулся, бросился вперед.
Туда, где первой шеренгой стояли совсем мальчишки.
Мясо.
Ценой своих жизней, своего тела срочники-вэвэшники прикрывали собой профессионалов. Профи нужны для атаки. Мясо нужно для обороны. Цинизм войны.
А здесь война?
Здесь – война! Эти там, под свастикой. Токаренко тут. Под… под чем ты, товарищ подполковник?
Вместо камней полетели бутылки. Они глухо лопались о щиты, горящий бензин брызгами летел на «сферы» пацанов. Пацаны падали, их закидывали снегом, накрывали одеялами. Оттаскивали. Шеренга смыкалась, постепенно редея. Некоторые вставали, трясли головой, надевали закопченные каски и… И, улыбаясь, возвращались в шеренгу, держа удар, как его умеют держать славяне. «Две тысячи шестьдесят девять», – вдруг вспомнил Токаренко точное число украинских героев прошлой страны. И будет ли две тысячи семидесятый?
– Комбат! – закричали слева. – Батя!
Шеренга прогибалась, отступая от огненного шквала. Еще немного, и…
Приказа – нет.
Ты тоже – мясо, подполковник. Или две тысячи семидесятый?
Прямо перед ним о шлем бойца разбилась очередная бутылка. Пламя медленной струей потекло по рядовому, тот отбросил щит, сорвал каску, упал лицом в грязный, перемешанный берцами снег.
Подполковник бросился прыжком вперед, перепрыгнув через горящего. В его щит снова ударил камень.
– В атаку! – заорал комбат, прикрывая собой и щитом горящего пацана.
Шеренга сорвалась молча, без улыбок и криков. Работали по всем. Кто стоит на пути – тот враг. Сдерживали себя что есть силы. Чтобы не убить. Чтобы не покалечить. Ведь приказа нет…
Через пять минут все было кончено. Пленных оттаскивали в автозаки. Обожженных и раненых – в «скорые».
Токаренко зло сплюнул на изувеченную мостовую. Долго глядел на марево огня. Оттуда доносилось нестройное: что-то про саван каким-то героям. Обернулся, резко сказал:
– Офицеров в первую шеренгу.
– Товарищ подполковник, но…
– Это приказ.
А настоящего приказа все не было и не было…
Везунчик Корж
Рассказ
Мирону Коржу везло всегда. С самого детства и даже раньше.
Отец Мирона, Тарас, бил жену смертным боем каждые выходные. Это у него таким ритуалом было – выпить в шинке горилки добрых чарок штук десять, закусить цибулей с салом, вернуться домой и бить жену. За что? А за то, что порченная досталась, крови на простыне не было. Ну и так, для воспитания. Бабу надо в узде держать. А то что беременная – так что, дидовы обычаи нарушать?
Вот в одно святое воскресенье и повесилась Ганна. Тарас пришел из храма, нашел жену в петле. Зараза такая, прямо под иконами повесилась. С досады пнул ее в живот. Тут Мирон и полез на белый свет. Повезло, что повитуха в соседках жила.
И ведь выжил Мирон. А мамка – нет.
Странно, но отец Мирона не бил. Но и не привечал. Внимания не обращал – растет и растет. С малых лет в пастухи, потом к кузне было прибился, но долго там не удержался – дышать не мог у горна. Но так ничего, жил. Правда, дивчины его не привечали, когда подрос. Некрасивый вырос. Ну, оно и понятно – недоносок с впалой грудью.
Так бы и жил Корж, не подозревая о своем везении, если бы не война.
Первый раз его призвали в сентябре тридцать девятого. Но польский подпоручник не успел призывников даже до Львова довезти, как война кончилась. Пришли красные москали, навоняли бензином, поломали танками забор у старой Гарпыни – правда, починили потом, а подпоручника заарештувалы. Призывников же распустили по домам.
А после пошли одни хорошие новости за другими. Крестьянам разрешили ездить в города без разрешения старосты. Молодежь начали звать в школы да университеты. Только Мирон в университеты не пошел – а зачем? Ему и двух классов церковной школы хватало: считать свиней умеет, и хорошо.
В село приехали чудные люди. Тоже украинцы вроде бы, только говорящие как-то странно. Одеты хорошо, грамотные, а простого не понимающие. Начали колхоз организовывать. Мол, вместе работать легче. Вежливо уговаривали, что там медовым речам иезуитов. Но народ, приученный годами к панскому хамству, вежливость считал трусостью. И понимал, что добро, собранное в общее, легче властям забрать. Это ж не по каждому двору ходить оброк собирать. Заглянули в коллективный амбар да и забрали все. Вот люди свое и закапывали. Хай сгниет, або никому не достанется.
Старый Корж с досады помер, когда собрался было свиней резать. А Мирон взял да и отдал живность в колхоз. За что получил похвалу от председателя. Но передовиком Корж не стал, в чем ему опять повезло. Только он тогда об этом еще не догадывался.
Осознание удачливости пришло лишь через два года.
Мирона снова призвали в армию, на этот раз в Красную. Да только он опять послужить не успел, как попал в немецкий плен.
И немцы отпустили местных по домам. Но не всех, а тех, кто согласился служить во вспомогательной полиции. Выдали по австрийской винтовке, нарисовали аусвайсы – и вперед, охраняй порядок.
А чего его охранять, в родном-то селе? Арестовал и передал немцам схидняков-активистов колгоспа, да и ходи себе по селу с винтовкой, горилку с салом сшибай у селян. Ну и девки стали покладистее, особенно Галя с дальнего хутора.
Правда, со временем в лесу завелись лихие люди. Называли себя борцами за свободу Украины. Но забот от них оказалось неожиданно мало – с немцами не воевали, с села брали подать продуктами. Между собой собачились, это да. Мирон в их дрязги не лез, ему чи бандеровцы, чи мельниковцы: лишь бы не трогали. А они и не трогали. Велели только сельским полицаям коммуняк да москалей выдавать, коли заведутся. А откуда они заведутся, в Галиции-то? Заезжих схидняков сразу вывели, а других москалей здесь отродясь не водилось.
Ну разве не везунчиком уродился Мирон Корж?
Даже в сорок четвертом, когда полицейских мобилизовали в «добровольные помощники вермахта», Коржу повезло опять.
На этот раз им выдали долгополые немецкие шинели темно-зеленого цвета. И каски. А больше ничего не выдали. Долго возили туда-сюда, пока не приткнули сорок два человека к какому-то пехотному полку. Вот с кормежкой было туго: питались помощники последними, что в полевых кухнях после немцев останется. Оставалось мало. А жрать Мирон ой как любил.
Однажды ночью их подняли по тревоге и вывели к передовой. Там, в окопах, на ломаном русском гауптман кое-как объяснил галицийцам, что выпала им большая честь сражаться за великую Германию. Гауптмана мало кто