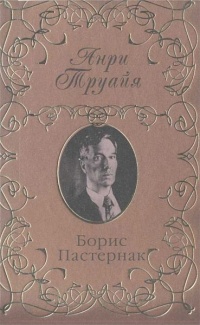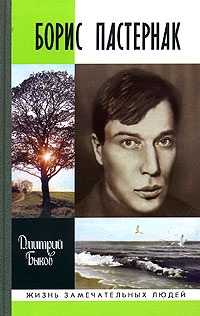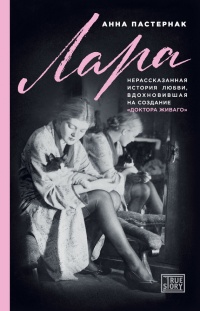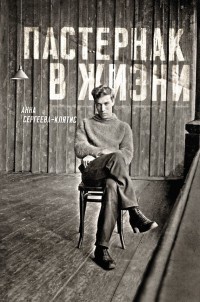Этой малостьюРазве будешь сыт?Что над тем костромЯ – холодная,Что за тем столомЯ – голодная.
Ну а если к этому добавить еще бытовые неурядицы, предстоящую зиму, отсутствие школы для Мура, невозможность общения со старыми друзьями, литераторами и ужас «болшевского заточения» – то можно легко себе представить, в каком состоянии находилась Марина Ивановна… Если и в нормальных условиях она все окружающее воспринимала на свой особый и всегда мучительно трагический лад, и в душе ее все, что перевидала, что перечувствовала, что пережила, горело адовым пламенем, обжигая ее, чтобы потом жечь других, став стихами… «Я – одна секунда в жизни читателя, толчок…»
Но тут и этого не было, стихов не было…
Правда, там, в Болшеве, Марина Ивановна перевела на французский язык несколько стихотворений Лермонтова. Думается, эти переводы устроила ей Лида Бать, которая работала вместе с Алей в “Revue de Moscou”.
Алексей Крученых писал: «В рукописи М. Цветаевой читаем запись:
“С 21-го июля 1939 г. по 19-е августа 1939 г. переведены:
1. Сон (В полдневный жар…).
2. Казачья колыбельная песня.
3. Выхожу один я на дорогу.
4. И скучно и грустно.
5. Любовь мертвеца.
6. Прощай, немытая Россия.
7. Эпиграмма (Под фирмой иностр.).
8. Отчизна.
9. Предсказание.
10. Опять вы, гордые, восстали.
11. Нет, я не Байрон.
12. На смерть Пушкина.
…По заказу для журнала (“Revue de Moscou”) № 9, 10, 11. Все остальное переводила для себя (и для Лермонтова!)”»[26].
Дачный поезд увозил Алю из Болшева, и в окне мелькали перелески, лужайки, овраги, березнячки, ельнички – милое Подмосковье! И колеса весело стучали и приближали Алю к Москве, и Аля все чаще смотрела на часы, высчитывая, сколько еще минут осталось до встречи с ним…
Но кто же был он? Какой был он? Марине Ивановне он очень понравился, она сразу приняла его душой. Мур писал ему потом из Ташкента в 1943-м: «Знай, что я к тебе всегда очень хорошо относился и считаю тебя прекрасным человеком, прекрасных качеств и свойств…» «Если бы ты был около меня, то все было бы по-иному, тебе я поверил бы, тебя бы послушался, ты – мне друг, и тебя в эти подлинно трагические для меня дни, тебя-то мне очень недоставало…» Сергей Яковлевич, кажется, относился хорошо. Он любил дочь, а дочь любила Мулю.
Я никогда его не видела. Только на маленькой и плохой фотографии, что стояла за стеклом на книжной полке над письменным столом Али.
Он был темноволос, коротко стрижен, глаза карие, выразительные, правильные черты лица, красиво очерченный рот, белозубая покоряющая улыбка. Он был умен, остроумен, ум – математически точный, юмор злой. Эмоций, как говорят, был лишен, творческого начала тоже, но был блестящим организатором, а как известно, без таких работников ни одна газета, ни один журнал не обходятся. Так мне его описывали его друзья.