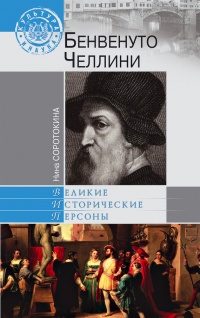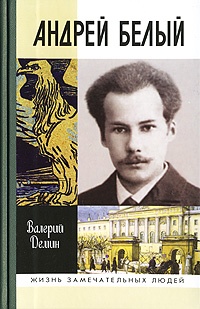Пускай ты выпита другим,Но мне осталось, мне осталосьТвоих волос стеклянный дымИ глаз осенняя усталость».
Прошло несколько лет. Шел 1925 год. Мариенгофы и Есенин уже давно не общались. Тот ездил в Баку, затем в Тифлис. Но судьба вновь в какой-то момент свела их.
Никритина вспоминала:
«Мы были у Качаловых вместе с Саррой Лебедевой – скульптором. Много говорили о Есенине. Василий Иванович читал его стихи „Собаке Качалова“. Вернулись все трое к нам домой часа в 4 утра. Вдруг входит моя мама и говорит: „Сережа был, все время смотрел на Киру (это наш сынишка), плакал, хотел помириться с Толей…“ Мы прямо растерялись. Подумайте, мы там все время говорили о нем, и он пришел. Мы были в отчаянии. Где же теперь его найти? Постоянного жилья у него не было, он ночевал то здесь, то там. И вдруг назавтра, часа в 2 дня, четыре звонка – это к нам. Открываю – он, Сережа. Мы обнялись, расцеловались. Побежали в комнату. Мариенгоф ахнул. Он был счастлив, что Сережа пришел. Есенин смущенно сказал: вся его „банда“ смеется над ним, что он пошел к Мариенгофу. „А я все равно пошел“. Они сидели, говорили, молчали… Потом Есенин сказал: „Толя, я скоро умру, не поминай меня злом… у меня туберкулез!“ Толя уговаривал его, что туберкулез лечится, обещал все бросить, поехать с ним, куда нужно. Никакого туберкулеза у него не было. А просто засела в голове страшная мысль о самоубийстве. Она была у него навязчивая, потому что, когда Есенин очутился в нервном отделении у Ганнушкина и мы к нему пришли, он только и рассказывал, что там всегда раскрыты двери, что им не дают ни ножичка, ни веревочки, чтоб чего над собой не сделали. Я больше его не видела…»
Никритина, действительно, больше Сергея Есенина не видела, а Мариенгоф повстречал случайно, почти перед самой смертью поэта:
«День был серого цвета. Я сидел на скамейке бульвара против Камерного театра.
– Сережа!
Есенин не сразу услышал. Шляпа, побуревшая от мокрого снега, была надвинута на самые брови.
– Сережа!
– Здорово! – Сел рядом, сдвинул шляпу на затылок и неожиданно спросил: – Толя, ты любишь слово покой?
– Слово – люблю, а сам покой не особенно.
– Хо-рошее слово! От него и комнаты называются покоями, от него и покойник. Хо-орошее слово! – И, рассеянно поцеловав меня в губы, сказал: – Прощай, милый!
– Куда торопишься, Сережа?
– Пойду с ним попрощаюсь.
– С кем это?
– С Пушкиным.
– А чего с ним прощаться? Он небось никуда не уезжает.
– Может, я далеко уеду».
В 1928 году Никритина перешла в Большой драматический театр, и семья перебралась в Ленинград. К этому времени в творчестве Мариенгофа произошли значительные изменения. Стихи отошли на второй план. «Со смертию Есенина и переездом в Ленинград, – пишет он в „Автобиографии“, – закончилась первая половина моей литературной жизни, в достаточной мере бурная. С 30-х годов я почти целиком ухожу в драматургию. Моя биография – это мои пьесы». Мариенгоф написал более десяти больших пьес и множество скетчей.
В 1924 – 1925 годах Мариенгоф работал заведующим сценарным отделом Пролеткино, а вскоре, главным образом в соавторстве с друзьями, начал писать киносценарии. Всего их было создано им около десяти. Одним из ведущих жанров в творчестве Мариенгофа становится теперь проза. Большую известность получил «Роман без вранья» (1927).
В 1928 году в берлинском издательстве «Петрополис» вышел еще один роман Мариенгофа – «Циники», публикация которого принесла ему массу неприятностей и за который его подвергли откровенной травле. В конце концов, 1 ноября 1929 года он направил письмо в правление МО Всероссийского союза советских писателей, где признал, что «появление за рубежом произведения, не разрешенного в СССР, недопустимо».
Прообразом событий, описанных в «Циниках», стала трагическая история взаимоотношений поэта Вадима Шершеневича и актрисы Юлии Дижур, застрелившейся после одной из ссор. Роман также включает в себя множество автобиографических мотивов и в целом описывает период жизни страны с 1918 по 1924 год. Однако главным достоинством произведения было неоспоримое ощущение любви в каждой строчке, завуалированное некоторым «цинизмом» повествователя:
«1918 год.