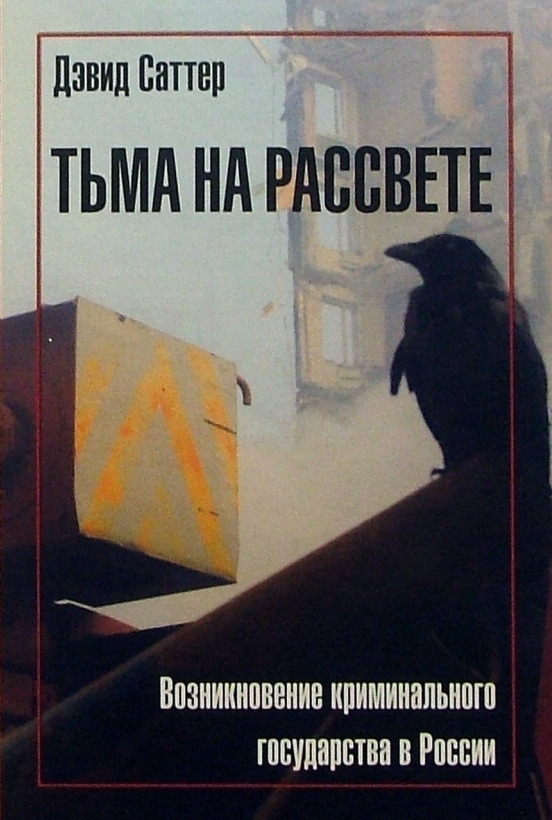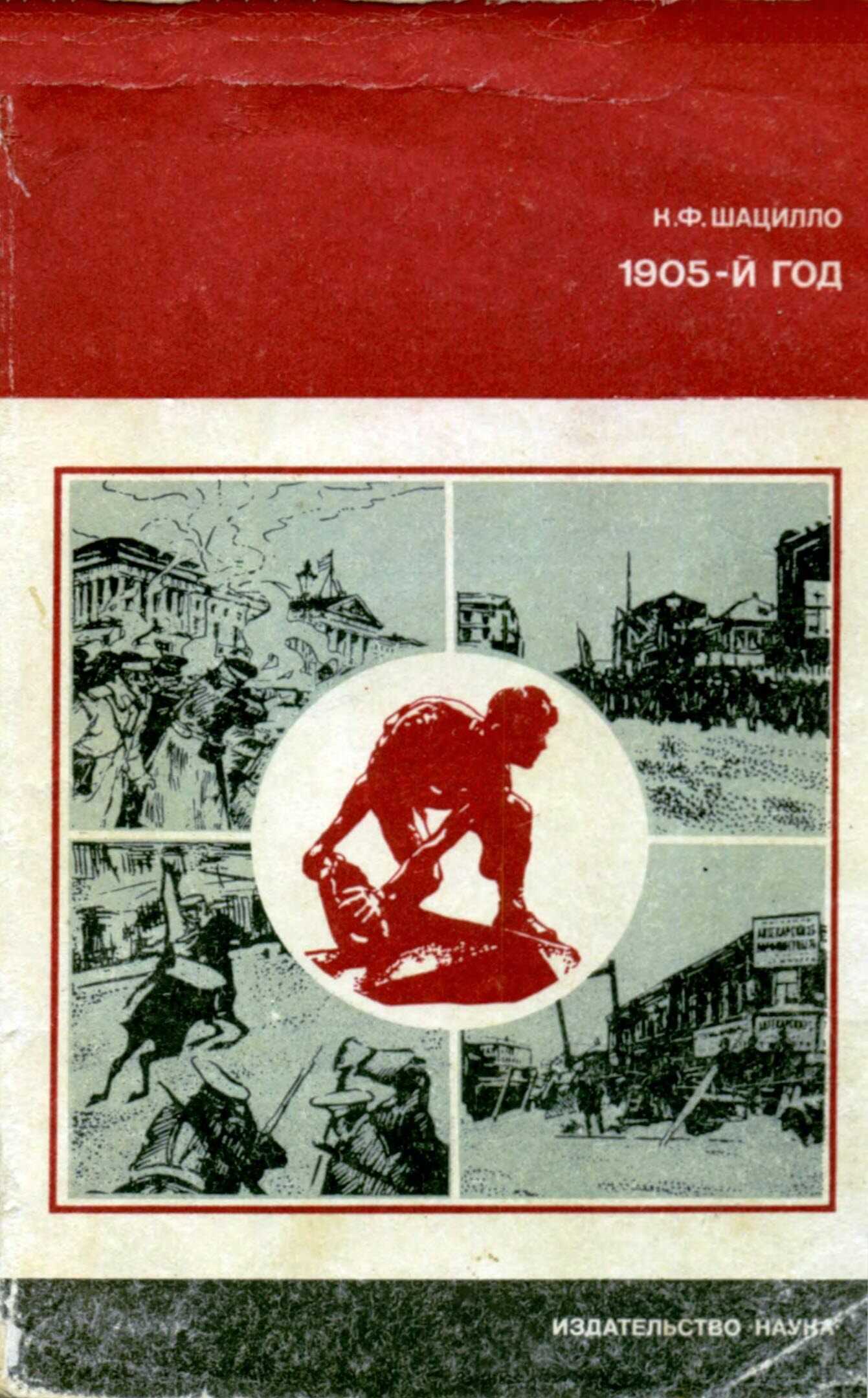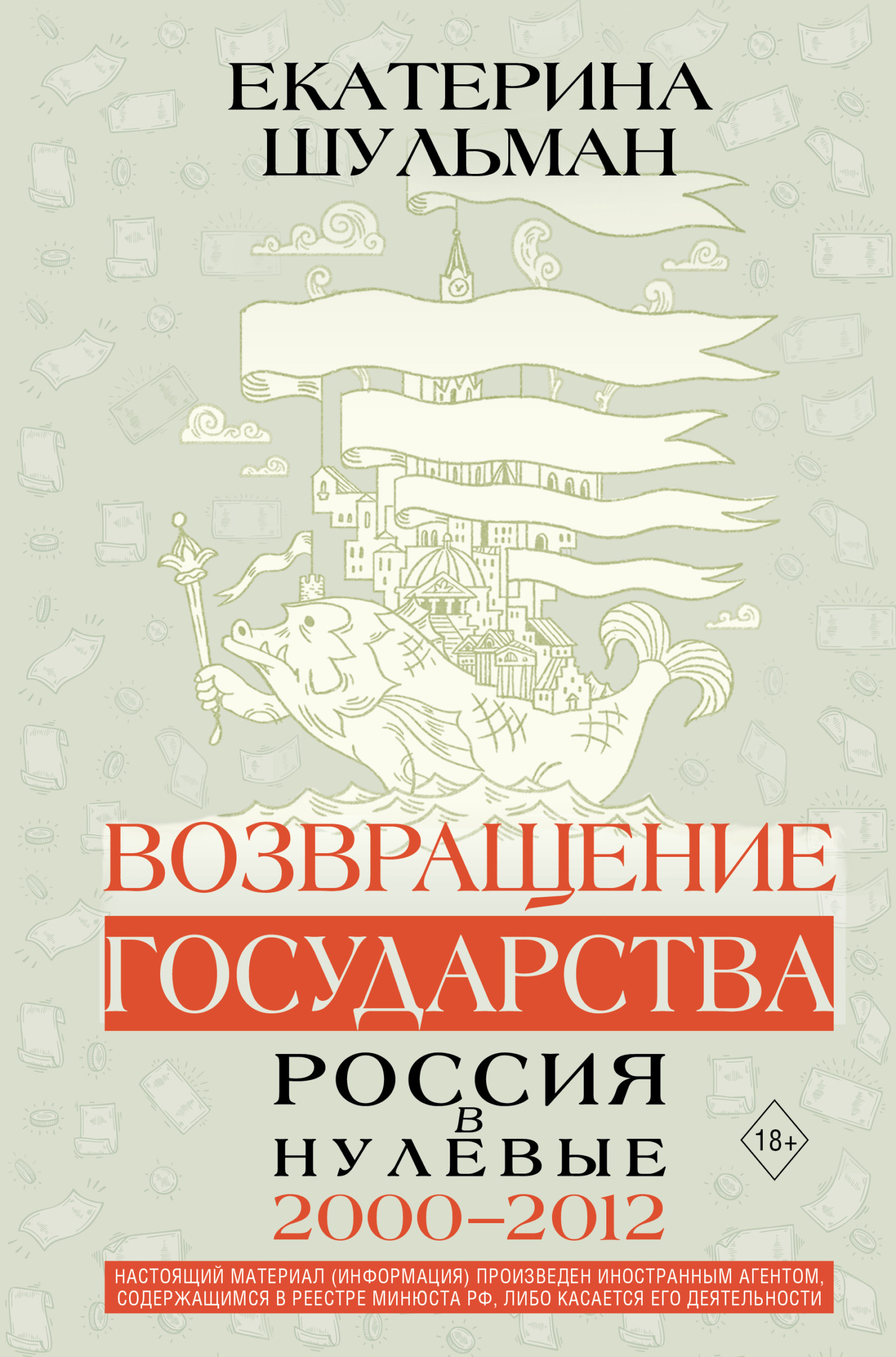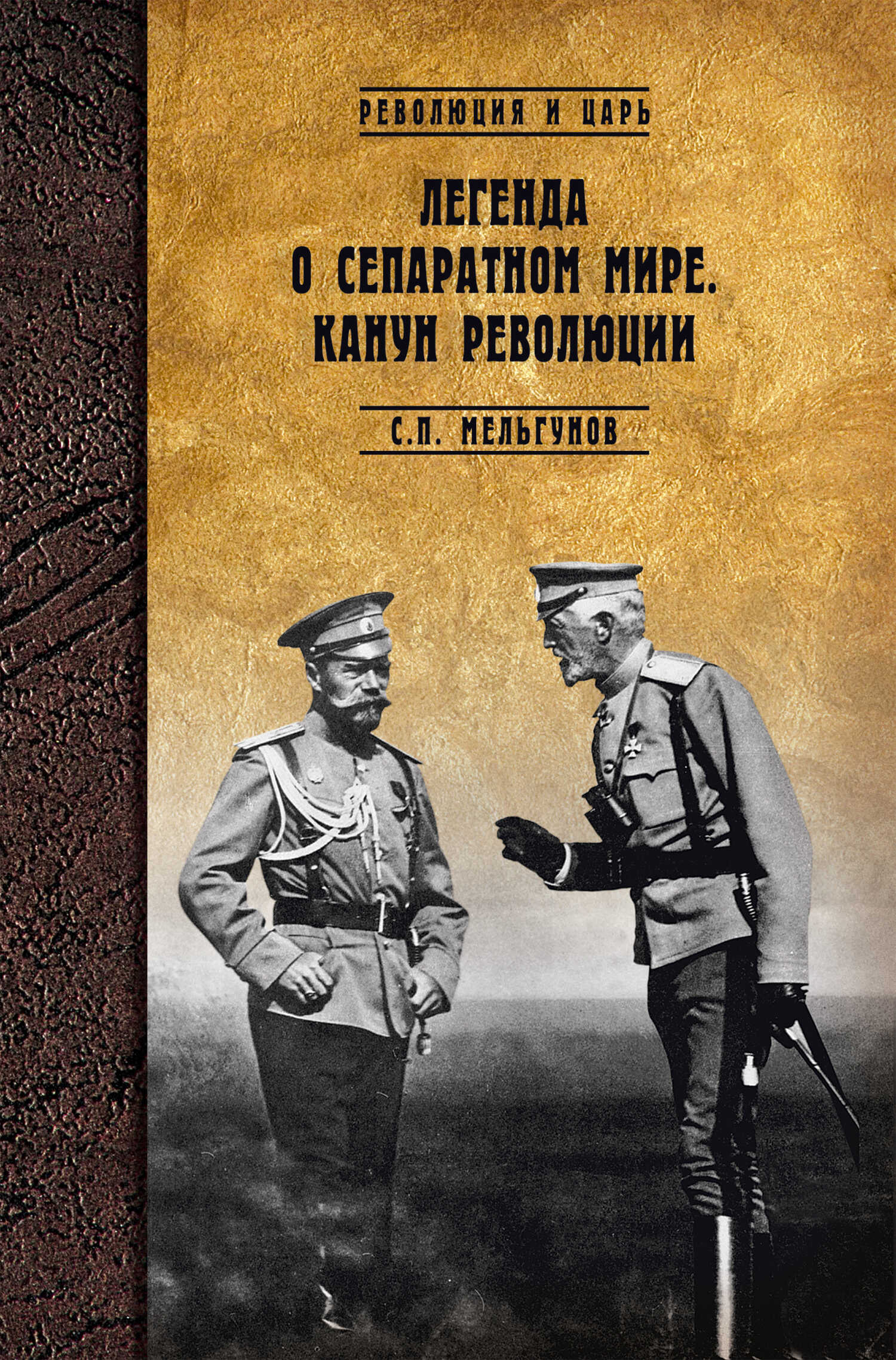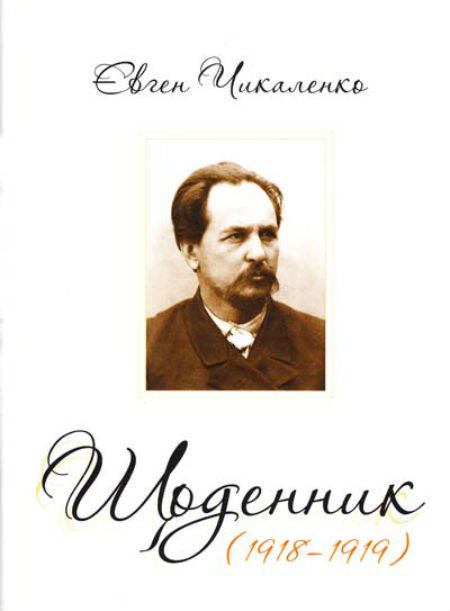Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 148
кое-что из моды, литературы, учреждений и этических понятий Западной Европы, и дворяне, естественно, сравнивали свой класс с аристократией Германии и Франции. Для тех, кто оказался под влиянием новых иноземных идей, сравнение было унизительным. На Западе дворяне пользовались свободой и привилегиями, гордились своей вольностью, правами и культурой; тогда как в России дворяне были государевыми слугами, не имевшими ни привилегий, ни достоинства, подвергались телесным наказаниям и были обременены утомительными обязанностями, от которых некуда было скрыться. Таким образом, в той части дворянства, которая имела некоторое представление о западной цивилизации, возникло чувство недовольства и желание занять то же социальное положение, которое занимают дворяне во Франции и Германии. Частично эти стремления осуществил Петр III, отменивший в 1762 году принцип обязательной службы. Его супруга Екатерина II пошла гораздо дальше в этом направлении и открыла новую эпоху в истории дворянства – период, когда его долг и обязанности отошли на второй план, а права и привилегии вышли на первый.
У Екатерины были веские причины благоволить к дворянству. Будучи иностранкой и узурпаторшей, взойдя на престол в результате дворцового заговора, она не могла пробудить в массах того полурелигиозного почитания, которым всегда пользовались законные цари, и поэтому ей пришлось искать поддержки в высших классах, имевших не столь жесткие и бескомпромиссные представления о легитимности. Вследствие этого она подтвердила указ, отменяющий обязательную службу для знати, и стремилась заручиться ее добровольным служением за счет почестей и наград. В своих манифестах она всегда говорила о дворянах в самых лестных выражениях, стремясь убедить их в том, что благополучие страны зависит от их лояльности и преданности. Хотя она не собиралась уступать хотя бы толику своей политической власти, она объединила дворян всех губерний в единую корпорацию с регулярными собраниями по образцу французских провинциальных парламентов и доверила каждой из этих корпораций значительную часть местного управления. Подобными способами, опираясь на свою мужскую энергию и женский такт, она приобрела большую популярность и полностью изменила старые представления о государственной службе. Раньше служба считалась обузой; теперь же она стала считаться привилегией. Тысячи дворян, разъехавшихся по своим поместьям после обнародования указа об освобождении от службы, теперь стекались обратно и искали себе постов, и эта тенденция значительно усилилась благодаря блестящим кампаниям против турок, возбудившим патриотические чувства и предоставившим широкие возможности для продвижения по службе. В комедии того времени «Хвастун» Княжнина говорится об этом так:
Люди все рехнулись на чинах,
Портные, столяры – все одинакой веры;
Купцы, сапожники – все метят в офицеры;
И кто без чина свой проводит темный век,
Тот кажется у нас совсем не человек.
И Екатерина сделала не только это. Она разделяла мысль, общепринятую во всей Европе со времен блестящего правления Людовика XIV, что утонченная, пышная, ищущая удовольствий придворная знать – это не только самый надежный оплот монархии, но и необходимое украшение любого цивилизованного государства; и поскольку она страстно желала, чтобы ее страна имела репутацию цивилизованной, она стремилась создать это национальное украшение. Здесь к ней на помощь пришла любовь к французской культуре, уже бытовавшая среди высших слоев ее подданных, и усилия царицы в этом направлении увенчались необычайным успехом. Петербургский двор стал почти столь же блестящим, галантным и легкомысленным, как Версальский двор. Все, кто добивался высоких почестей, перенимали французскую моду, говорили по-французски и безоговорочно восхищались французской классической литературой. Придворные говорили о point d’honneur[18], обсуждали, что согласуется с достоинством дворянина, а что нет, стремились выказать «рыцарский дух, гордость и украшение Франции», и с ужасом оглядывались на унизительное положение их отцов и дедов. «Петр Великий, – пишет один из них, – бил всех, кто его окружал, невзирая на роды и звания; но ныне многие из нас предпочли бы смертную казнь битию или порке, даже если кару налагает священная длань божьего помазанника».
Атмосфера, царившая в придворных кругах Петербурга, постепенно распространялась и на нижние дворянские чины, и невнимательным наблюдателям казалось, что это очень хорошая имитация французского дворянства; однако на самом деле копия совсем не походила на образец. Русский дворянин легко выучил язык и усвоил манеры французского gentilhomme[19], сумев изменить свой физический и умственный облик; но все те более глубокие и тонкие части человеческой натуры, кои сформированы накопленным опытом прошлых поколений, невозможно так просто и быстро изменить. Французский gentilhomme XVIII века был прямым потомком феодального барона, и основополагающие понятия его предков глубоко укоренились в его характере. У него, более того, не было старого озорного отношения к сюзерену, и его речь была окрашена модной демократической философией того времени; однако он обладал богатым морально-интеллектуальным наследием, которое дошло до него непосредственно со времен феодализма, наследием, которое не смогла уничтожить даже Великая революция, которая тогда же подготовлялась. А русский дворянин унаследовал от предков совсем другие традиции. Его отец и дед ощущали бремя, а не привилегии класса, к которому принадлежали. Они не считали позором получать телесные наказания и ревностно относились к своей чести, но не так, как дворяне или потомки бояр, а как бригадиры, коллежские асессоры и тайные советники. Их достоинство основывалось не на милости Божией, а на воле царя. В таких обстоятельствах даже самый гордый магнат екатерининского двора, хотя и умел говорить по-французски так же свободно, как на своем родном языке, не мог глубоко проникнуться концепцией благородной крови и священного происхождения дворянства и многочисленными феодальными идеями, переплетенными с этими концепциями. И, усвоив внешние формы чужой культуры, дворяне, по-видимому, не очень выиграли в истинном достоинстве. «Разрушенное местничество (вредное впрочем службе и государству) и незамененное никаким правом знатным родам, истребило мысли благородной гордости во дворянах, – восклицает тот, кто питал более подлинные аристократические чувства, чем его собратья[20], – ибо стали не роды почтенны, а чины и заслуги и выслуги; и тако каждый стал добиваться чинов, а не всякому удастся прямые заслуги учинить, то, за недостатком заслуг, стали стараться выслуживаться, всякими образами льстя и угождая государю и вельможам». В этой жалобе есть значительная доля истины, но возглас этого одинокого аристократа был подобен гласу, вопиющему в пустыне. Весь образованный класс, как потомки древних родов, так и парвеню, за редким исключением, были слишком увлечены поисками чинов, чтобы обращать внимание на эти сентиментальные стенания.
Итак, если русская знать в своем новом виде была всего лишь весьма несовершенной имитацией французского образца, то на английскую аристократию она походила еще меньше. Несмотря на либеральные фразы, которые нередко позволяла себе Екатерина, она
Ознакомительная версия. Доступно 30 страниц из 148