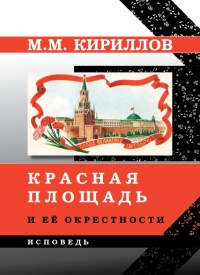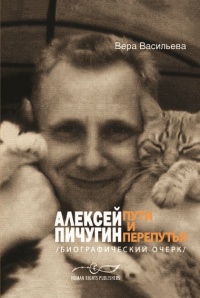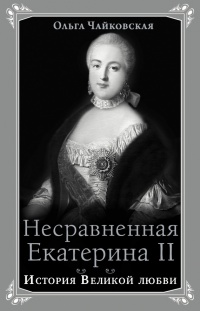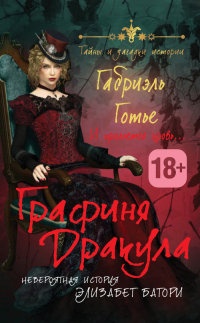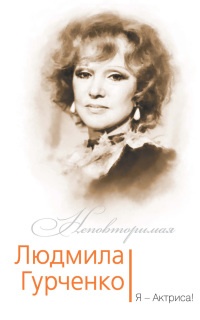…Не могу поверить человеку, который носит такой безвкусный галстук.
А. Тышлер. Заметки о «Короле Лире» и «Ричарде III» Писать о театральных тышлеровских решениях трудно — они «прошли», в отличие от живописи, графики и скульптуры, и уже почти не осталось людей, которые видели оформленные им спектакли.
Тышлер оформил великое их множество (кое-кто на этом основании считает Тышлера театральным художником), я же хочу остановиться лишь на самых звездных, в которых он предстал вровень с лучшими своими живописными произведениями и сумел провести свою, довольно неожиданную и даже парадоксальную линию театрального сценографа, претендующую на ведущую роль в спектакле. В сущности, именно об этом речь в весьма боевитом «Диалоге с режиссером» (1935). «Диалога» не получается. Режиссер (обобщенный образ) — хочет «протащить» свое натуралистическое решение всей пьесы и навязать его художнику, на что получает категорический отказ: «Это будет реально, но не натуралистично»[121].
В бурной личной жизни 1930-х годов у Тышлера торжествует «легкий» дух комедии. Он избегает «бурь». Как бы ни переживала Татоша Аристархова, Саша Тышлер оглашает записку сестре Тамаре криком «Ура!!!». Он умеет гасить «достоевщинку» Леночки Гальпериной жизнелюбием, шутливостью, нежностью. В его жизни словно воцаряется волшебный «сон в летнюю ночь», а в театральных постановках происходит изживание глубинных экзистенциальных переживаний, эмоциональных бурь, которые он старается по возможности не допускать в свою личную жизнь. Там — комедии, пусть порой и с шекспировским накалом чувств, тут, на театре, — шекспировские трагедии…
В сущности, театр пришел в его жизнь одновременно с живописью. Впоследствии он писал: «…меня в театр пригласили с выставки»[122] и возводил свою работу сценографа к традициям русского искусства конца XIX — начала XX века, когда почти все художники работали в театре.
Начинал он еще в 1922 году в студии Культур-Лиги в Киеве. Делал эскизы костюмов к так и не осуществленной постановке «Саббатай Цви» Шолома Аша.
Начинал с фольклорно-национальных еврейских мотивов, пусть и в весьма своеобразной пластической интерпретации. И это существенно. Ему будет близок народно-национальный театр — театр простых, сильных, естественных переживаний, от которого прямой путь к Шекспиру. Тышлер будет оформлять спектакли в еврейском, цыганском, узбекском театрах.
Он не был адептом популярной в 1920–1930-е годы конструктивистской сценографии, — голые конструкции его тяготили, ничего не говорили душе. Но ненавидел он и «жизнеподобие», ту мнимую «реалистичность» оформления, которая шла от поклонников системы Станиславского.
Он искал целостного образа, который эмоционально захватывает зрителя. Искал поэтической концентрации пластических средств. Его будут упрекать в некоторой «статичности» сценографических решений, но их сильной стороной будет эмоциональная встряска, «шоковая терапия», заложенная в «архитектурных» пластических образах.
Эпоха требовала от театра эмоций, катарсиса, иначе можно было «взорваться», лопнуть от «страха и сострадания» и не эстетических вовсе, а вполне реальных. Ночами исчезали друзья и знакомые. Иногда навсегда.
Какие-то личные коллизии заставляли режиссеров браться за пьесы высокого эмоционального накала. Сам Соломон Михоэлс перед своим «звездным» Лиром намеревался вообще уйти со сцены, пребывал в страшной депрессии. В 1932 году он почти одновременно потерял сначала жену, мать двух их дочек, а потом возлюбленную, актрису его же театра. По тогдашнему обыкновению (все тот же «квартирный вопрос») и жена с дочками, и он с возлюбленной жили в одном доме, — актеров ГОСЕТа. Общее напряжение привело к трагедии — обе женщины не выдержали. Сезон 1932/33 года был в театре отменен. Михоэлс с трудом приходил в себя. Вот как описывает дочь его первый выход «на люди»: «Сгорбившись, с отсутствующим взглядом, состарившийся до неузнаваемости, опираясь на Чечика и меня, преодолел папа расстояние в 2 этажа после двух месяцев оцепенения и неподвижности. Этот взгляд и эту поступь я узнала года через два в сцене выхода короля Лира»[123].