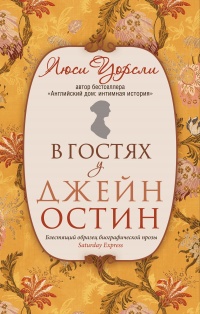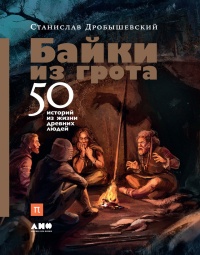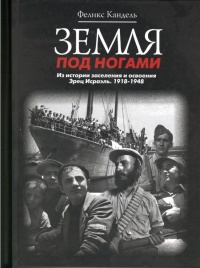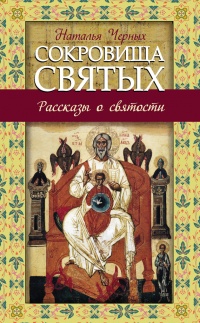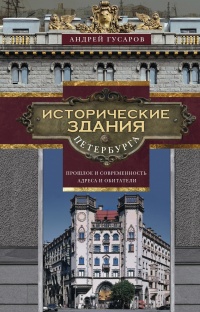Там, где грузят глубокие барки.
Стали только саженями дров.
М. Моравская. Грузчики Основным топливом в Петербурге XVIII и XIX веков служили дрова. Преобладающая масса дров сплавлялась в Петербург в виде плотов или на баржах, небольшая их часть доставлялась эстонцами и финнами по Финскому заливу на лайбах (двухмачтовых или трехмачтовых парусных шхунах небольшого водоизмещения) или окрестными крестьянами на санях или телегах. Баржи (или барки), привозившие в город дрова, были обычно легкой постройки, с расчетом на «одну воду», то есть на 2–3 рейса в течение навигации. Баржи после финальной разгрузки разбирались на «барочный» лес, идущий на временные постройки дешевых домов на окраинах и частично — на топливо. «Барочный» лес продавался в местах разборки барж очень дешево, так как был сырой и весь в дырах от деревянных нагелей.
Разгрузка барж с дровами. Фото начала ХХ в.
Для разгрузки барж с пиленым лесом нанимались так называемые «носаки», их отличала кожаная подушка, притороченная к одному из плечей. Как обслуга барж, так и береговые рабочие — обычно из крестьян. Как вспоминали Д. А. Засосов и В. И. Пызин: «Как-то странно было видеть на наших богатых гранитных набережных бедно, даже рвано одетых людей в лаптях. Свою тяжелую работу они даже не могли скрасить песней — в Петербурге это было строго запрещено, следила полиция».
Четырехполенные в длину дрова отправляли в «гонках» — специальных плотах-обрубах. Академик В. Я. Озерецковский, совершивший поездку по Ладоге в 1785 году, описывал их следующим образом: «…Строят из шестисаженного тонкого елового лесу четырехсторонние обрубы вышиною в полтора аршина, настилают в оных пол из жердей, скрепляют стены шпонками, а углы — смятыми еловыми прутьями, кои в сем случае надежнее железа; наполняют обрубы дровами, в каждый обруб помещается от 14 до 16 сажен; нагруженные обрубы свозят в одну линию, привязывают один к другому счалками, то есть короткими бревнами… привязывают счалки еловыми измятыми прутьями и таким образом счаливают до 36 обрубов, а напереди плот из бревен, называемый головной, на котором держатся канаты и якори. Сие то есть гонка, которая в длину имеет до 250, а в ширину шесть сажен. Для большего укрепления протягивают через всю гонку толстые канаты, обвертывая оными каждую связь… На головном плоту ставят мачту и таковые же мачты чрез пять обрубов на шестом, а на всей гонке шесть мачт… При попутном ветре подымают парусы и плывут под оными; в тихую ж погоду тянутся на завозах; в первом случае проходят в сутки более 20, а во втором от — 10 до 15 верст; при противном ветре стоят на якорях… В такую гонку погружается дров более 500 сажен, а людей бывает в ней от 16 до 20 человек».
С появлением пароходов плоты в пределах города проводились буксирами. Как правило, плот или даже целую гонку из плотов брали буксиром перед мостом и спускались по течению первыми, а пароход после разворота, находясь выше их по течению, спускал плоты на буксире, точно направляя их в пролет моста. Круглого леса в плотах приходило очень много: для нужд строек, лесопильных и деревообделочных заводов, бумажных фабрик.
Плоты ставились под разгрузку или у специальных лесных складов, или у фабрик и заводов для их обработки. Разгрузка производилась вручную при помощи веревок, с выкаткой по наклонным слегам, с укладкой в штабеля.
Если плоты и баржи доставляли дрова в Петербург по течению Невы, то на лайбах эстонцы или финны везли дрова по Финскому заливу и вверх по Неве.