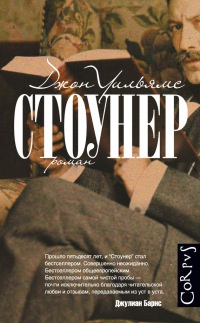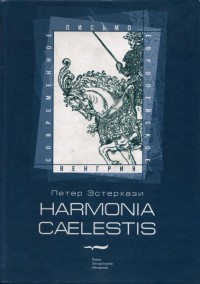…У Зезоллы бородавка посередке подбородка,но она всем говорила, это родинка вскочила…
Когда она пела песенку Энджи, та смеялась. У малышки была родинка на подбородке, которая очень ей шла.
Дети держали животных у себя перед глазами и ощупывали впадины на месте их глаз. Дети помещали животных в свое сознание. Они были детьми, умеющими верить. Снаружи догорал августовский день сухим соленым жаром, но внутри дети дрожали, как дрожали давным-давно животные, с которых Аарон сдирал шкуры. Они дрожали и кричали в своей бесшкурности, своей инаковости. Это рассказал им Сэм.
Где-то твое животное, и важно, чтобы ты его узнал и узнал, как связаться с ним, или ты будешь ничем. Ты всегда будешь бояться. Тебе нигде не будет ни покоя, ни спасения.
Этим летом они приходили в каменный дом каждый день. И так же, как Аарон делал эти фигурки, а Эмма – своих детей, эти дети делали свою историю, день ото дня обретавшую все больше жизни, так что они могли едва ли не коснуться ее, словно огромной фантастической бабочки, лежащей среди них, бабочки, похожей на темную руку с растопыренными пальцами, собирающей их вместе.
* * *
Первым, что Аарон построил на острове, был каменный дом. Он жил в нем вместе с убитыми животными. Здесь же он солил мясо, когда был звероловом, свежевал и развешивал туши, извлекал мозги. Иногда он начинал их есть еще живыми. Хтоническое действо, уместное в такой полуземлянке, напоминавшей мрачный грот.
Аарон жил здесь дикарем. Кровь под ногтями. Кровь на ботинках. Несуразный безалаберный юнец, сплошь тупое невежество и сила. Он мог так чисто свежевать животное, что не было заметно ни единого пореза… обвести ножом задние ноги, вспарывая шкуру по внутренней стороне, до основания хвоста, аккуратно вокруг хвоста, вниз по другой ноге, вплоть до лап, оставляя когти. И снимал шкуру. Вот так просто. Как кожуру с апельсина. Отделял голову и вычищал ее палкой, которую споласкивал в воде…
Даже сейчас, на летней жаре, дети почти чуяли остывающую кровь и горячую пыль. Они могли представить его тяжелые, покрытые пятнами руки, вырезающие и отделяющие, снимающие шкуру с подвешенной за лапы туши, которая крутилась и крутилась, ловя свет, медно-рыжие волоски, отливавшие золотом…
Как ясно дети могли видеть это. Как отчетливо у них в уме рисовались эти вещи; такие явственные в своей белизне, в своем небытии. Их шкуры, их инаковость, инаковость, лежащая разъятой…
Аарон мог освежевать медвежонка за полторы минуты.
Аарон мог выпотрошить и загипсовать животное так безупречно, что оно казалось целым, невредимым, словно вот-вот из его холодных ноздрей выйдет облачко дыхания, и животное снова побежит. Их было так много, этих животных, всех этих созданий, пойманных в силки, или застреленных, или отравленных, или утопленных, без просьбы о прощении, без благословения.
Аарон гордился своим проворством. Не было такой твари, какую бы он не мог выследить или поймать. Он мог поймать руками певчую птицу и раздавить ей сердце большим пальцем. Животных, пойманных в силки, у которых была красивая шкура, он не добивал пулей. Он раздавливал им сердце каблуком. Он всегда знал, где их сердце, и давил туда. Это никогда как будто не причиняло особой боли. Он просто останавливал их сердце.
Но ловчий промысел потерял для него свое грубое очарование, и Аарон какое-то время убивал только ради сноровки. Больше всего ему нравилось убивать из лука. Экономично и бесшумно. Ему нравилась эта бесшумность. Он мог выпустить стрелу с трехсот ярдов. Не хуже турка. Выпущенная стрела – жуткая вещь. Ее можно увидеть, но не избежать.
Последнее животное, которое Аарон убил, заговорило с ним перед смертью, и его кровь не бежала красной рекой, как у животных. Это животное умирало с грустью, словно в тихом помешательстве, и оно заговорило с Аароном, не словами, но Аарон его понял. Его это не испугало. Скорее, насмешило. Это была мертвечина, с мухами, кружившими над пастью, а он был живым человеком. Он рассмеялся над собой оттого, что с ним приключилось такое, – вот что значит жить одному в глуши так долго. Он решил ненадолго выбраться в цивилизованный мир, заработать денег, повидать свет, поучиться. И покинул глушь. Свои ружья он оставил ржаветь, а луки – коробиться. Он направил свою энергию на общество, и все, чего ему только хотелось, он получил.
К тому времени, как ему исполнилось тридцать пять, он стоил несколько сотен тысяч долларов. Он читал по-латыни и танцевал с принцессами. Он побывал в Европе и встретил там Эмму.
А Эмма, как дети давно уяснили, была ведьмой.
Она ненавидела соль. Блевала иголками. Ведьмовство ее было что красный мел, но Аарона это не насторожило. Он упивался собой, а до остального ему не было дела. Он подобрал этот красный мелок и положил в карман, а после ему пришлось повсюду следовать за ней. С этим он ничего не мог поделать. После стольких лет везения он вдруг сделался невезучим, словно лис, упавший в колодец.
Эмма приложила к нему свое ведьмовство и приворожила. Она не была ни красоткой, ни богачкой, и, уж конечно, не обладала изящными манерами. Попытки Аарона окультурить ее пропали втуне. «Ебала я Овидия», – слышал он в ответ. У нее никогда не было матери. Ее родил какой-то ужас. Почка, жарившаяся, скворча, на сковородке. Руки и ноги у нее всегда были расчесаны, кожа дотемна обгорела на солнце, а ее спутанные волосы, рассыпавшиеся по плечам, лезли в глаза. Но ничто в ее внешности не имело значения, потому что Аарон видел ее такой, как она ему внушила. Так она его околдовала. Эмма готовила свое ведьмовское зелье, глядя пристально на себя в зеркало, пока оно не выцветало, покрываясь налетом, и тогда она счищала налет и клала в еду.