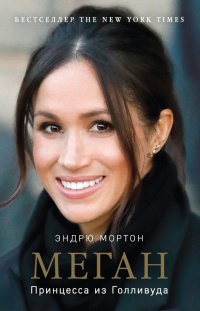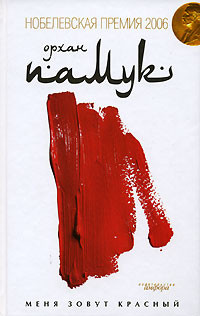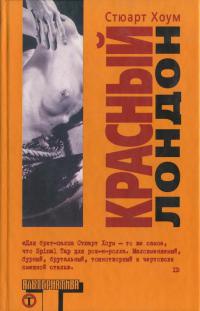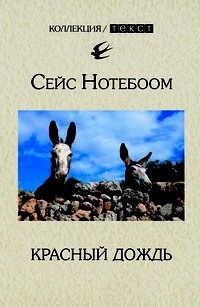Война приходит в Нью-Йорк. — Пол Боулз: «Троцкий должен умереть». — Разгадка смерти Вилли Мюнценберга. — Странный садовник Брехта
Мужчина или женщина появляются на официальном приеме: вынюхивают, прислушиваются. А на следующий день идет ко дну пароход с грузом продовольствия или самолеты проносятся над городом, бросая бомбы на казармы, на склад с провиантом, госпиталь или школу. ‹…› Это шпионы. Это агенты смерти. Это те, кто засел в засаде. Они являются пятой колонной. — Рауль Гонсалес Туньон.
Пятая колонна — это словосочетание мгновенно стало крылатым, отделившись от испанских реалий. В 1937-м даже те столицы мира, где жизнь еще притворялась жизнью, дышали страхом и отчаянием — все города были фронтовыми, а в том, где пролегает линия фронта, отделяющая своих от чужих, не был уверен никто. Испания была повсюду.
Людей не покидало смутное ощущение какой-то нависшей угрозы, предчувствие надвигающейся беды. Как бы ни чуждались вы в действительности всякой конспирации, вся атмосфера побуждала вас чувствовать себя этаким заговорщиком, конспиратором. Казалось, все время вы только и делаете, что шушукаетесь с кем-то по углам кафе да прикидываете, не полицейский ли шпик вон тот тип за соседним столиком.
Сравните эту Барселону времен агонии ПОУМ, какой ее запомнил Оруэлл, с мирным Парижем в описании Жоржа Бернаноса:
Весна 1937-го была ‹…› одной из самых трагических французских весен, весной гражданской войны. Политическое соперничество уступило место социальной ненависти, развивавшейся в невыносимой атмосфере обоюдной боязни. Страх! Страх! Страх! Это была весна Страха. Какими могучими должны были быть жизненные силы, чтобы в этой вязкой атмосфере все же зацвели каштаны! Лица и те были неузнаваемы. «Покончить — и немедля!» — бормотали вполне мирные люди.
А вот — Александр Гладков о Москве.
Самое страшное этой «чумы» — то, что она происходит на фоне чудесного московского лета, — ездят на дачи, покупают арбузы, любуются цветами, гоняются за книжными новинками, модными пластинками, откладывают на книжку деньги на мебель в новую квартиру, и только мимоходом, вполголоса, говорят о тех, кто исчез в прошлую или позапрошлую ночь. Большей частью это кажется бессмысленным. Гибнут хорошие люди, иногда нехорошие, но тоже не шпионы и диверсанты. ‹…› С легкой руки Леонида Утесова вся Москва этим летом поет французскую песенку «Все хорошо, прекрасная маркиза».
А что там Америка?
* * *
Мне открылось лицо радикального зла — столь же уродливого и приводящего в оцепенение, как фашизм, — в лицах тех, кто был убежден, что относится к числу людей доброй воли. ‹…› Атмосфера, по меньшей мере в либеральных интеллектуальных и культурных кругах Нью-Йорка, была перегружена напряжением, ненавистью и страхом. ‹…›
Войдя в переполненный университетский лифт, я порой мог рассказать о политических переживаниях [спутников] по блеску их глаз, иногда — по неожиданной бледности, выдававшей скрытую в душе ярость. Однажды я то ли написал что-то критическое о компартии, то ли разразился критическим спичем. И человек, стоявший рядом со мной у прилавка университетского книжного магазина, вдруг указал на мой красный галстук и заорал: «Вы не имеете права носить красный галстук — вы, „загонщик красных“!»
Таким запомнил Нью-Йорк 1937-го философ Сидни Хук. Еще недавно, в 1929-м, он работал в Московском институте Маркса и Энгельса, но когда Гитлер пришел к власти, обвинил Сталина в подмене интересов мировой революции интересами СССР. Обратившись в троцкистскую веру, основал Американскую партию трудящихся, затем, как многие троцкисты, поправел. Хотя поправел — мягко сказано. Он выдавал трагическую иронию Брехта за вульгарное людоедство, мастерски вырвав из контекста его слова по поводу ареста Зиновьева и Каменева (1935): «Чем меньше их вина, тем достойнее они смерти».
В 1942-м Хук донес ФБР на Малькольма Каули. А после войны клеймил антиамериканизм американской литературы и разрабатывал для ЦРУ программу нейтрализации ее воздействия на слабые европейские умы: