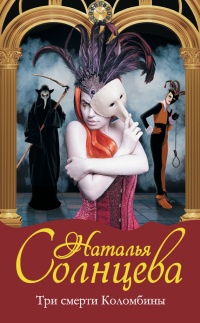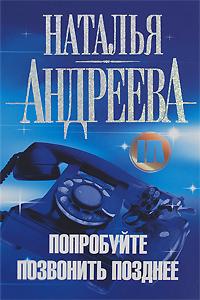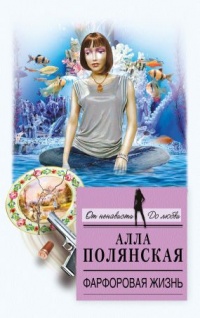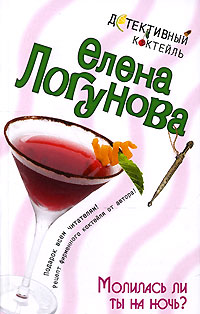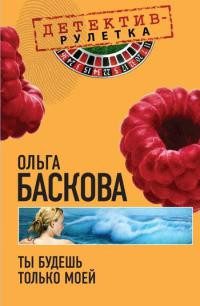«В оный день, когда над миром новым Бог склонял лицо Свое, тогда Солнце останавливали словом, Словом разрушали города».
А мы, говоря словами того же Гумилева, слову «поставили пределом скудные пределы естества». Поэтому и пишем только о неудачниках.
— Всё это здорово звучит… но я не очень религиозна… да и пророков себе представляла иначе, чем вы рассказали. Одно дело — Нострадамус, Ванга, другое — Илия и Елисей. Да и вы на них непохожи. Вы похожи на Гофмана. Как я могу писать о пророке, получившем весь мир, если не знаю, что это за мир? А мир, в котором вас осудили на два года условно, мне более-менее знаком.
— Да, я не Илия и не Елисей, — с горечью сказал он, — а всего лишь Илья Енисеев. — Простите за дрянной каламбур! Но я же родился на Илию Пророка, второго августа, и родители назвали меня, по совету верующей бабушки, Ильей! Что-нибудь это да значит? Хотя один старец послушал этот мой лепет и сказал: «Это значит всего лишь то, что пророк Илия — твой небесный покровитель. И больше ничего». На самом деле я, со своим непонятным даром, такой же, как вы. Чтобы изобразить меня, вам лучше просто писать о себе.
— Может быть, для вас просто, а я не поняла. Объясните.
— Ваш дар, как и мой, можно использовать по-разному. Словом можно останавливать солнце, разрушать города, а можно поставить ему пределом скудные пределы естества и зарабатывать с его помощью деньги. Писатели сегодня — те же астрологи и лжепророки. Глоба предлагает человечеству спасительные гороскопы, а писатели — забвение. Посмотрите на меня, и вы увидите вариант своего будущего, которого я вам не желаю и не предсказываю. Я не состоялся ни как пророк, ни как шарлатан-лжепророк, что самое унизительное. Я, со своими способностями, подлинными или мнимыми, оказался у разбитого корыта. Вот вам правда обо мне в мире, в котором нет правды. Говорить ли вам, что многих способных писателей ждет та же судьба? Что писатели делятся не только на настоящих художников и преуспевающих халтурщиков, а еще и на тех, кто оказался у разбитого корыта? И что этих, третьих, больше всего? Так зачем же вам писать о пьющем пророке, получившем условный срок?
Они дошли до перекрестка и свернули на улицу Гончарова, под державную сень насупившихся сталинских домов. Девушка шла молча, может быть, размышляя над тем, что сказал Енисеев.
— Интересно, в какой же категории окажусь я, — наконец сказала она. — Вы можете это предсказать?
— Я вашего имени даже не знаю, а вы меня второй раз просите предсказать будущее!
— Ой, простите! — как-то по-детски улыбнулась писательница. — Елена.
— Очень приятно. Елена, тут и предсказывать нечего. Вы уходите из общежития, чтобы писать в кафе, а халтурщик пишет где угодно, даже если у него под ухом кричат десять человек. Знаю по журналистской работе. Стало быть, вы не халтурщица, и попадете в первую или третью категорию.
— Хм… А поточнее нельзя?
— Еще чего! Если писателям предсказывать, что они окажутся у разбитого корыта, то они все перестанут писать, и в первой категории не окажется вообще никого. Потому что в первую категорию не попадают из второй, а только из третьей. Если же я вам предскажу попадание сразу в первую категорию, вы потеряете писательский тонус: дескать, зачем напрягаться, если всё предопределено?
— Так вы знаете или просто забавляетесь надо мной?
— Елена, радуйтесь: у вас нет еще писательского будущего. Вы пока находитесь в настоящем. Вы начали писать не из трезвого расчета, а оттого, что не могли не писать. Предсказывать пока что-либо бессмысленно.
— Довольно обтекаемо… Я и сама так могу пророчествовать.
— Конечно, можете! А я о чем? Ведь всё зависит от вас! Главное — не попасть во вторую категорию. А от третьей до первой расстояние не такое большое, как кажется. Правда, пройти его удается далеко не всем.
— Понятно. Вы довольно деликатно намекаете, что я окажусь в третьей категории — то есть у разбитого корыта.
— Нет, мне просто кажется, что третьей категории вам не миновать. Неужели вы и сами не знаете этого? В ней лишь важно не застрять, как безнадежно застрял я.
С Гончарова свернули на Добролюбова. Елена вдруг остановилась.
— Давайте постоим. Не хочется к себе идти. Там все гении, а поговорить не с кем.
— Давайте, мне-то всё равно, меня дома никто не ждет. И бутылочка виски еще есть.
— Вы сказали в кафе, что ваша жена далеко… А где это — далеко?
— На небе.
— Ой! — девушка прижала руки ко рту. — Простите!
— Нет, вы меня не так поняли, — усмехнулся Енисеев и суеверно перекрестился. — Она стюардесса.
— Фу-у… а я-то испугалась… ведь вы говорили о ней в кафе, как о живой, и вдруг — «на небе»!
— Мне следовало сказать: «в небе», но я уже чуть-чуть утратил контроль над правильной речью. Надо освежиться. За здоровье Наденьки, успешный полет и возвращение! — он достал «мерзавчик» и сделал глоток.
— А знаете, что: дайте и мне, — вдруг попросила Елена.