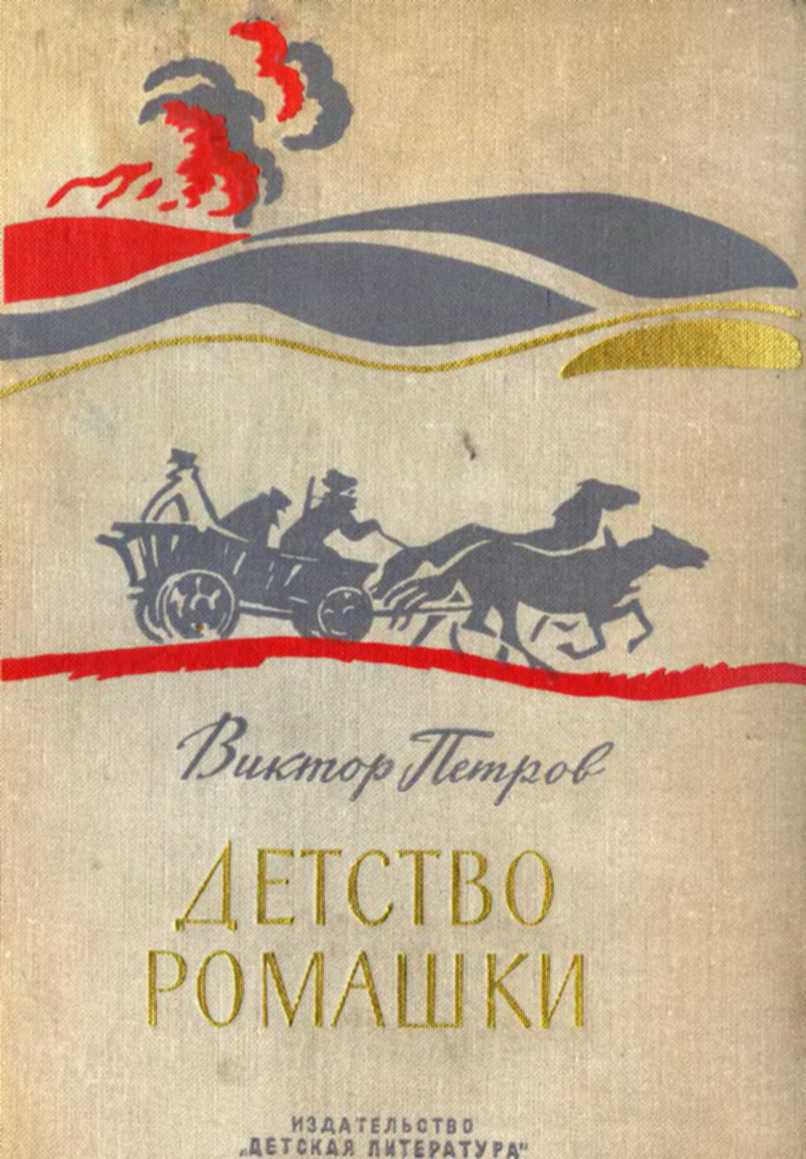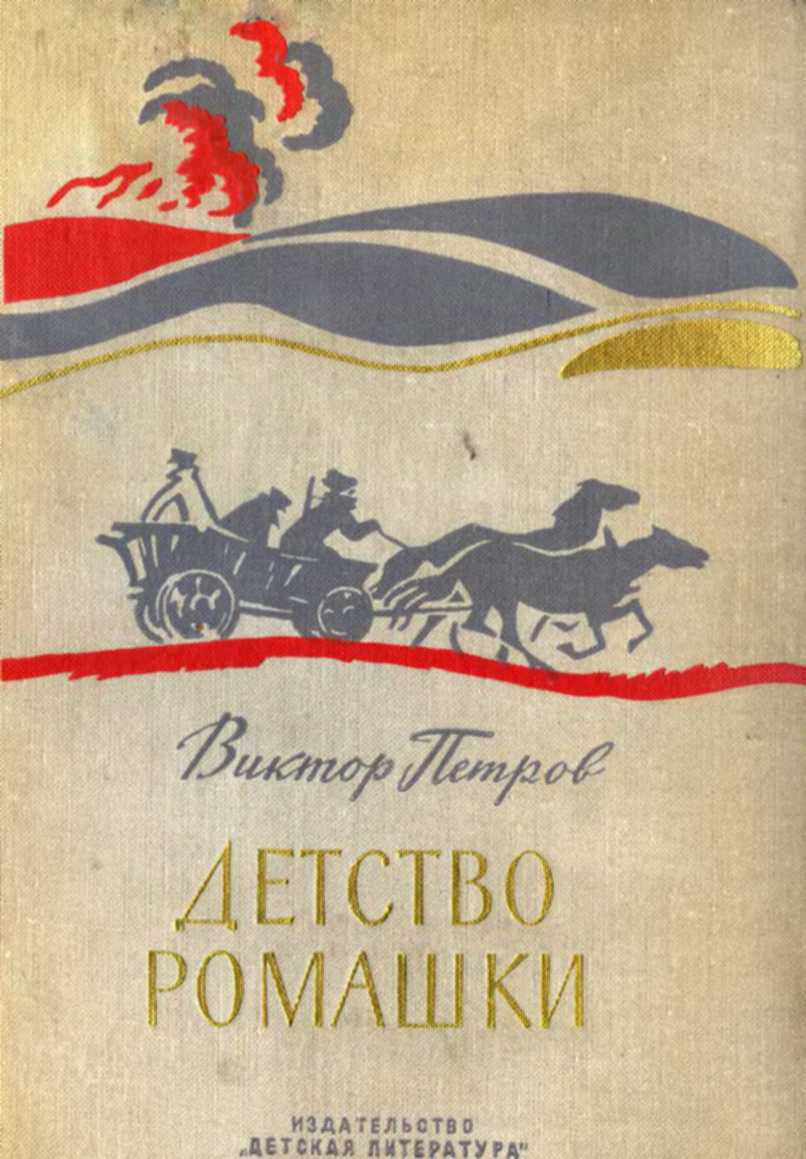Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34
В тот день на уроках он больше не появлялся.
Леонид Никифорович пришел в школу перед самым концом занятий. Разделся он в каморке и вышел к нам в гимнастерке с заправленным под ремень рукавом.
– Вот, ребята, я и пришел к вам, – белозубо улыбнувшись, просто сказал он. – А что рассказать вам, право, не знаю. Спрашивайте.
Все молчали, не отводя глаз от пустого рукава, заправленного под ремень, и с ордена Красной Звезды на гимнастерке.
– Дядя Леня, а на войне очень страшно бывает? – спросила Надя, сузив и без того узкие глаза.
Кто-то засмеялся, но на него тут же зашикали.
– Кому как, все зависит от человека. Есть люди, которые темноты боятся, мышиного писку. А храбрый и на медведя пойдет с рогатиной. Все зависит от выдержки и хладнокровия. Волевому, закаленному человеку не страшна никакая неожиданность.
Когда немцы начали бомбить Киев, на нашей казарме загорелась крыша. Некоторые бойцы растерялись, бегают по двору, суетятся. А один младший сержант кошкой вскарабкался на крышу, схватил пилоткой зажигательную бомбу и швырнул вниз: «Ну чего психуете, зажигалок не видели?» И тут все успокоились, стали разбирать из пирамиды оружие.
А вот другой пример. Попали мы в окружение, выбираемся к своим через буковый лес. Вдруг один из головного дозора закричал: «Немцы!» – начал беспорядочную стрельбу. Рядом было шоссе, и в это время по нему проходила колонна автомобилей. Услышав стрельбу, немецкие солдаты бросились прочесывать лес. Так из-за трусости одного мы потеряли чуть не целую роту.
Все слушали затаив дыхание. Кунюша глядел на Леонида Никифоровича, оттопырив губу и задумчиво подперев щеку ладонью. Захлебыш обхватил голову руками. Вовка-Костыль сидел неподвижно и о чем-то сосредоточенно думал. Лицо его осунулось, нос неестественно заострился.
– Фашисты – это настоящие изверги, – продолжал Леонид Никифорович. – Я собственными глазами видел повешенных ими женщин и детей. Когда мы выходили из окружения, не раз натыкались на сожженные дотла села. Страшно это: как призраки белеют в ночи печные трубы да жалобно скулят бездомные псы.
Леониду Никифоровичу не дали договорить. В класс вбежала взволнованная Глафира и, ни на кого не взглянув, что-то зашептала ему на ухо.
– Извините, ребята, у меня дома не все в порядке, – расстроенно сказал он. – С вами мы еще встретимся, и я постараюсь ответить на все ваши вопросы.
Накинув шинель, он торопливо ушел за Глафирой.
* * *
Вечером я зашел к Славке. Петр Михайлович Кузнецов горемычно сидел на порожке и курил в приоткрытую дверь. Пахло камфорой и еще какими-то лекарствами. Дедушка бредил. Около его постели сидела вся семья: Славка, его мать, отец, бабушка.
Я присел рядом с Кузнецовым. Все удрученно молчали.
– Шлава, Шлава, – чуть слышно позвал дедушка, – от Леонида какие известия есть? Япошки еще не выступили?
– Да что ты, папа, я здесь, – наклонился к нему Леонид Никифорович. – Успокойся, папа, все будет хорошо.
Глафира сделала укол, и через несколько минут дедушка пришел в себя. Слабо улыбнувшись, он погладил руку сына и дрожащим голосом сказал:
– Ни креста, ни пирамидки мне, хрусталик, не надо. Флаг над могилкой повесь, будь ласка. – И по его щеке покатилась медленная дрожащая слезинка.
В полночь дедушка умер. И в то же время, как прощальный салют, где-то во мраке ночи глухо прогремел одинокий винтовочный выстрел, и эхо долго перекатывалось по промозглым логам и распадкам.
Выстрел в ночи
А произошло вот что.
Накануне ночью Вовка-Костыль проснулся от возбужденного шепота. Мать испуганно разговаривала с кем-то за дощатой перегородкой. Шепот то нарастал, то становился почти неслышным. Вовка приподнял голову и прислушался.
– Донеси только, изо всех души вытрясу, – грозил кто-то. – Уж на тебя-то, Марея, я надеялся, как на каменную гору. Все-таки в детях кровь не чужая, моя.
– Что же ты про эту кровь поздно вспомнил? – со злобой сказала мать. – Хоть бы денег когда прислал, ведь неплохо, поди, на приисках зарабатывал. Мне детям сказать нечего, говорю, что утонул их отец. Детей я переписала на девичью фамилию, Рогузины они теперь, не Коломейцы. И как ты после всего, что было, смеешь являться в наш дом, да еще в таком виде?
– Успокойся, Марея, – примирительно прозвучал тот же осипший голос. – Вот окончится война, всех заберу на свои прииска. Ух, и житуха там!
– Что ты мне голову крутишь, ведь у тебя там семья! – опять повысила срывающийся голос мать. – Всю жизнь врал и опять врешь. Чует сердце, что неспроста ты явился.
– Т-с-с! – прошипел неизвестный. – Дети услышат, разболтать могут. Мне бы до весны дотянуть, там все изменится. Уедем отсюда, куда хочешь. У меня золото припрятано, много золота. Заживем с тобой, у-ух!
Что говорили дальше, Вовка не слышал. В висках противно застучало, на лбу выступил пот. Страх и обида душили Вовку: страх перед отцом, которого он совсем не знал и который возник как в сказке, неизвестно откуда, ужас перед ребятами, которые будут тыкать в него пальцами, обида за себя, не видевшего отцовской ласки.
Вовка хотел вскочить и позвать на помощь соседей, но его тело словно прилипло к кровати. В голове мелькали обрывки каких-то несвязных мыслей, его колотило, словно в лихорадке, временами ему казалось, что он куда-то проваливается.
Пришел он в себя утром, когда в доме уже никого не было. Заглянув в соседнюю комнату, Вовка увидел под столом вещмешок, а на печке – сохнущие портянки.
– В подполье уполз, – сообразил Вовка. – До ночи будет отсиживаться.
В школе Вовка никому не сказал ни слова, побоявшись, что над ним начнут издеваться. А когда в класс пришел Леонид Никифорович, решил: «Вот закончит, отведу его в сторону и все расскажу. Будь что будет».
Вдруг Леонид Никифорович неожиданно ушел. Вовка растерянно побродил по поселку, потом машинально повернул домой. Чуть не до полуночи он ходил вокруг дома, прислушиваясь к биению своего сердца. Ему казалось, что в груди ухает молот.
Когда в поселке погасли огни, он осторожно поднял щепкой крючок и вошел в сени. В кладовке под кучей старья он нащупал винтовку, проверил патроны и взвел курок. Осторожно, на цыпочках, Костыль вошел в кухню, осторожно снял с печки валенки и спрятал их под матрац.
Хотел спрятать туда же и лежащие на табурете брюки, но передумал, срезал с них пуговицы и положил брюки на место. Вовкины колени тряслись, в горле першило.
Костыль побольше ввернул фитиль лампы, открыл в сени дверь и негромко позвал:
– Батя, а батя!
За перегородкой натужно заскрипела кровать.
– Наконец-то, сынок, я тебя заждался.
Раздвинулась ситцевая занавеска и из комнаты вышел обросший детина с побуревшей правой щекой.
– Здорово, батя, – не своим голосом сказал Вовка, поднимая винтовку. – Одевайся, пойдем на станцию, тебя уже заждались.
– Да ты что, спятил? Ну-ка, убери, живо! – вытаращил глаза отец. – Закрывай двери, соседи услышат.
– Пусть все слышат, – возвышая голос, повторил приказание Костыль. – Все знают, что у меня нет отца, а ты мне не отец. Мой отец утонул в Байкале. Погиб геройски, понял?
Дрожащими руками детина стал надевать брюки, исподлобья наблюдая за Вовкой. Бледная, как стенка, мать остановилась в дверях и судорожно вцепилась в ручку. Казалось, она вот-вот упадет.
– А если я тебя зашибу? – испытующе покосился бывший отец. – Кулаком, а?
– Я «Ворошиловский стрелок», батя. Прошью как иглой.
Детина неожиданно прыгнул к двери. Вовка, не целясь, выстрелил. Жалобно звякнула вьюшка, с печки посыпалась известка. Детина шарахнулся назад.
– Вот, гадина, выдал, – запричитал он, – родного отца выдал!
На выстрел прибежал сосед, печник Филатов.
– Чего балуешь, – сердито прикрикнул он, сонно протирая глаза. – Пьяный, что ли? Всех детей встормошил!
– Несите ружье, дезертира поймал, – чуть не плача, попросил Вовка. – Убежать может.
Филатов принес ружье, и Вовка неуклюже скомандовал:
– Ну, пошли, не задерживай! Брюки-то держи, упадут.
– Хоть бы валенки отдал, на улице холодно.
– В носках пойдешь, ничего не случится. Ноги обморозишь, зато в лес не сбежишь, – все еще дрожа, ответил Костыль.
На станции стоял воинский эшелон, в тендер паровоза шумно лилась вода. Двери вагонов заиндевели и смутно белели во тьме.
– Заберите вот,
Ознакомительная версия. Доступно 7 страниц из 34