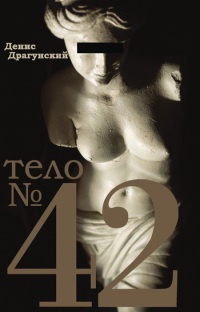— 1 —
Собственно, про Брускетоса.
Она у нас приютская и из клетки. То есть товарищ сидел до своих восьми месяцев в клетке с маменькой и не вылазил на волю. И не имел контактов с человеками. И был насторожен и ебанут. И любил пыльные углы и тайники и «аааааа! ща я спрячусь и никто меня не найдет никогда».
И вот три года прошло. Только-только мы начинаем приходить в кровать к человекам и ложить им свою пятнистую жопу на лица. Ненадолго. Но все же.
И при этом мы адски свиристим.
Мурлыкать и мяукать мы не умеем. Мы умеем свиристеть, как гигантский сверчок, и лаять, как маленькая ебанутая собачка.
Свиристящая Брускетта — это очень громко. Ооочень. Это как будто тебя посадили в кусты, а там миллионы сверчков, и они делают: «фффиииииирррррррррррыыыыфыыыыыииирррр».
Но приходится терпеть и жопу, и свиристенье, и то, что она не умеет лечь и лежать, а должна все это время (пять, десять минут) топтаться туда-сюда.
Гладить ее нельзя тоже. Можно чуть-чуть чесануть голову и убрать руку. Иначе она в шоке и убегает. На полдня минимум.
При этом Та Другая Кошкочеловек Агата просто тупо лежит себе на наших головах и тупо мурлычет.
Ту Другую — ее вообще нельзя обижать даже мыслью. Та Другая от любого стресса или шлепается в обморок, или ссыт, или все сразу.
Тонкая душевная организация у нас.
Говорят, бывают нормальные кошки. Просто кошки.
Это не к нам. У нас Отношения.
— 2 —
Приходила свекровь. Уходя, уволокла за собой на веранду кошек.
Дальше получилось так, что мерзлявая Агата быстро зашмыгнула обратно в дом, а Брускетон, занятый проводами «маменьки», этого не заметил. Да что Брускетон. Я тоже не заметила.
Через десять минут Брускетончик заскулил под дверью веранды, требуя пустить обратно.
Ну, пустила…
Брускетон при этом продолжал пищать и волноваться, как будто что-то такое очень страшное произошло. И бегать, то к двери на веранду, то в дом, то снова к двери.
— Агату ищешь? — спросила я.
— Пипи! — кивнул Брускетон.
— Так она, наверное, на веранде осталась.
— Пипи…
— Ну давай и ее позовем. А то хвост отморозит себе.
Мы пошли смотреть на веранду. Но Агаты там не оказалось, тут уже мы обе принялись волноваться. Мало ли, выскочила на улицу следом за свекровью. Психическая же…
— Пипи. Пипи. Пипи. Пипипии… — беспокоилась Брускетта.
— Блин. Что-то нет ее нигде.
— Пипипи.
— Ну да. Она у нас дура. Может и убежать.
— Пи! Пи!
— Да-да. Сейчас еще раз посмотрим. Не нервничай так.
На веранду — обратно. На веранду — обратно. В ванне посмотрели, в шкафах посмотрели, в уголке скорби под стойкой тоже. Нету. Звали обе. Шуршали едой. Обещали расческу.
— ПИ! ПИ!
— Агата.
— Пипи.
— Агааааата!
— Пииииипииииипииии.
— Блин. Ну ща оденусь, пойду на улицу. Нету.
— Пиииии.
Слушайте. Ну так мило, так искренне, так нежно тревожился наш Брускетон, что мне было ее невыносимо жалко. И я уже натянула джинсы, как увидела за шторкой на окне чье-то ухо с кисточкой.
— АГАТА! Ну ты бы хоть бы отозвалась. Мы ж тут с ума сошли.
Агата зевнула. Посмотрела на меня, как на больную.
— Брускетта. Вот она тут! Смотри. Не потерялась.
Я отодвинула шторку и показала уже почти рыдающей Брускетте ее старшую любимую подругу, которой до наших переживаний было, как Ржевскому до слез Наташи Ростовой.
Брускетта просто бросилась бегом к подоконнику, вскочила на него и принялась целовать раздраженную этими всеми телячьими нежностями Агату в сонное лицо.
А я смотрела на них и думала: «Ну вот какие инстинкты? Ну вы о чем сейчас? Ну есть там все. И эмоции. И даже уже и разум».
— 3 —
Кошкин дождь
Раз в год в городе идет кошкин дождь. Дождь идет только один раз в год. В последний вторник октября на закате.