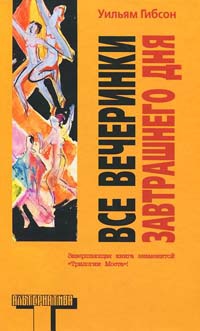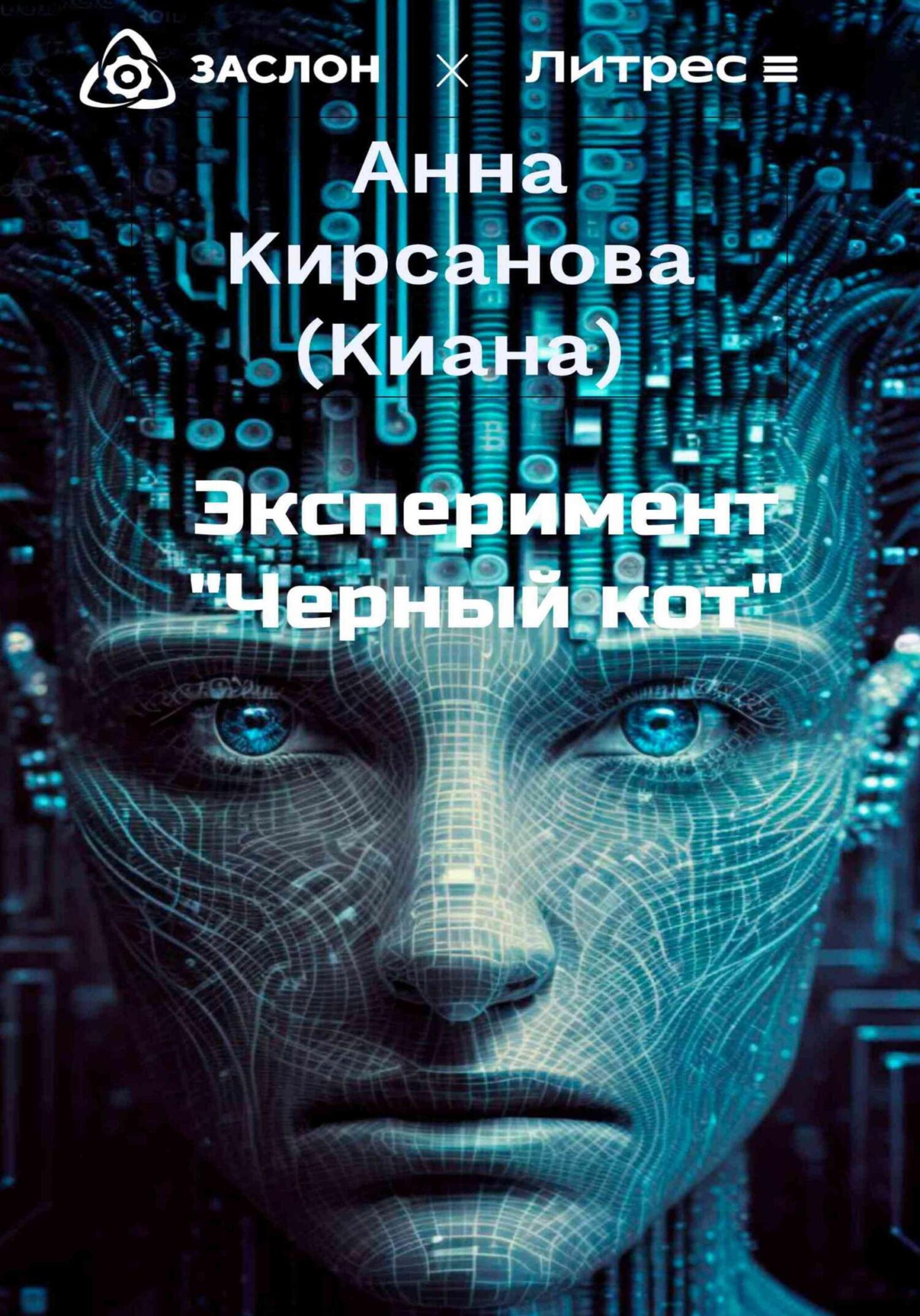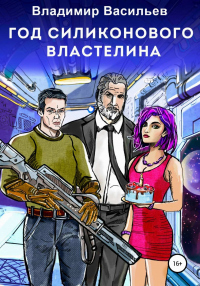Пальцы цепляются за край рамы. Улыбка неровная, будто не для камеры, а для кого-то за ней.
— Он любил свет. — Илья показал на правую сторону снимка. — Всегда садился туда, где солнце. А сам был… не солнечный. Пугливый. Но внутри был такой, что иногда мне страшно было к нему прикасаться.
— Почему? — спросил Мирослав.
— Потому что он будто не отсюда. Ни телом, ни взглядом. — Илья закрыл альбом ладонью на миг. — Иногда он говорил вещи… которые мы сами не понимали. О будущем. Об улицах, которых нет. Об именах, которых никто не знал.
— Это…
— Похоже на меня, — закончил за него Пётр. — Вот почему мы пришли.
Мирослав медленно перевёл взгляд на следующую фотографию. Юноша в форме. Курсанта. Уголок губ поднят, глаза в сторону. И вдруг… резкий толчок внутри. Он не мог дышать.
«Это… Я. Нет. Но…».
— Я помню этот жест. — Он машинально коснулся подбородка. — Я так держу его, когда думаю. Но как…
— Мы сами не знаем. — Илья улыбнулся — тускло, как будто сквозь воду. — Просто… если бы ты пришёл, и мы бы закрыли дверь — мы бы предали его снова.
— А если я ошибаюсь? — спросил Мирослав. — А если это не он — и не я?
— Тогда пусть это будет ошибка, которую мы выбрали сердцем, — сказал Пётр. — Нам не нужен ответ. Мы хотим знать тебя. Не прошлое.
Мирослав опустил голову. В груди что-то хрустнуло — словно старый шов разошёлся от слишком резкого вдоха.
— Тогда я останусь. Пока. Пока не исчезну опять.
Илья налил чай. Руки дрожали. Но не от страха.
— Хорошо. Тогда сегодня ты наш гость. А завтра — посмотрим, что будет. Мы не спешим. Ты и так уже вернулся. Пусть даже… не оттуда.
Мирослав всматривается в лицо на фото, словно в глубину колодца, откуда доносится тихий голос — не его, не их, но до боли знакомый. Глаза на снимке не смотрят прямо, но и не уходят в сторону — они, как и он, застряли где-то посередине. Между тогда и теперь. Между тем, кто был, и тем, кто есть.
Пальцы касаются края страницы. Чуть дрожат. Подушечки ощущают шероховатость фотобумаги, как будто через неё передаётся пульс — слабый, отрывистый. Кожа помнит то, чего разум отказывается признавать.
«Я не был там. Но тело говорит иначе. Как будто когда-то… я уже сидел перед этим альбомом. В другой жизни. Или в чужой».
Он не говорит вслух. Потому что любое слово может разрушить эту хрупкую ткань молчания, в которой они все трое дышат — почти синхронно.
— Простите… — его голос хриплый, в нём что-то щёлкает, как ржавчина в старом механизме. — Я боюсь… не за себя. За вас.
Илья медленно накрывает его ладонь своей. Не сжимает — просто касается. Тёплая кожа, знакомый вес.
— Не бойся. Если это ошибка, мы её выдержим. Но если это правда… то ты не один.
Мирослав переводит взгляд с фотографии на Петра. Тот всё ещё стоит у окна, как часовой, охраняющий не вход, а время. Или память.
— А если я… всё это придумал? Если я — случайность, занесённая в ваш дом пылью из другого мира?
— Тогда ты — та случайность, которую мы ждали пятнадцать лет, — Пётр отвечает спокойно, но в голосе — тяжесть льда, который не тает. — Пятнадцать лет. Без ответа. Без могилы. Без письма. Ты думаешь, мы не выдержим ещё одну невозможную версию?
— Но у меня нет воспоминаний. Ни одной сцены. Ни одного звука.
— Значит, мы расскажем. — Илья улыбается, но в этой улыбке больше молитвы, чем радости. — Мы тебе их заново подарим. Даже если ты не наш — ты можешь стать. Если захочешь.
Мирослав закрывает глаза. В висках пульсирует, как сигнал. Не тревога. Отклик.
«Я не хочу быть призраком. Но ещё страшнее — быть для них якорем вместо сына».
— Я не знаю, кем был их сын. Но если он ушёл, чтобы кто-то вроде меня мог… вернуться — может, в этом есть смысл?
— Его звали Артём, — тихо говорит Илья. — Но он сам говорил… что имена — это метки. А суть — глубже. Ты носишь ту же суть.
Мирослав открывает глаза. Смотрит снова на фотографию. Там — лицо юноши в форме. Не он. И всё же — он.
— Тогда… можно я останусь? Не как Артём. Не как тот, кем я был. А как тот, кто… может попробовать?
— Конечно. Мы только этого и ждали.
Мирослав молчит. Но страх уходит. Осталась только дрожь — не от холода. От близости чего-то, что больше, чем он сам. Больше времени. Больше памяти. Больше вины.
«Они верят. Я пока — нет. Но, может, это и есть путь: идти в темноте, держа за руку тех, кто всё ещё помнит свет».
Пётр молча открывает внутренний карман пальто. Его движения неспешны, почти ритуальны, как будто он достаёт не вещь, а саму память, свернувшуюся кольцом. На ладони — потемневший кулон: круглый, латунный, с тонкой гравировкой по краю. Он кладёт его на стол, прямо перед Мирославом, не говоря ни слова.
Рядом — сложенная вчетверо записка. Бумага пожелтела, но чернила — свежи, будто кто-то писал их вчера: «Если вернёшься — это твоё».
Мирослав не сразу опускает взгляд. Его тело замерло. В груди пустота, будто сердце сделало шаг назад.
Он всё же смотрит. Кулон. Простой. Даже грубый. Но он его знает. Узнаёт не разумом — телом. В затылке колет, как от яркого света, отражённого от снега.
Он поднимает руку к шее. На коже — еле заметная линия. Как след от нити. Как ожог времени.
— У меня… у меня там след, — голос срывается. Он не знает, кому говорит. Себе? Им? Или пустоте?
— Мы думали, ты утонул, — тихо произносит Пётр. — Тогда, на даче. Вода забрала. Ни тела, ни прощания. Только этот кулон на бережке. Как будто ты сам снял. Чтобы потом… вернуться.
Мирослав