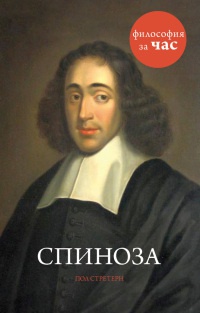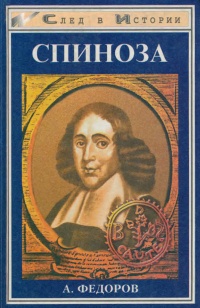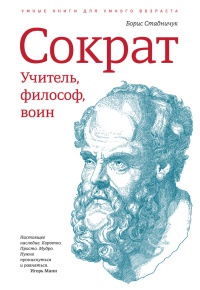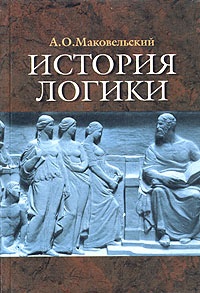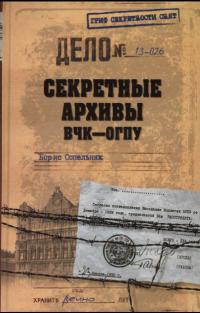За гремучую доблесть грядущих веков, За высокое племя людей Я лишился и чаши на пире отцов, И веселья, и чести своей…[78]
На кону, таким образом, стояла в виде «достоверного блага» не только «чаша на пире отцов» (то есть место в «небесной ешиве», где евреи сидят за столом, едят мясо Левиафана, пьют райское вино и учат Тору — один из образов рая в иудаизме) и веселье (которым обладает только человек, живущий в мире с собой), но и честь, ибо измена вере предков означала еще (и даже прежде всего) и бесчестье.
Но Спиноза, в отличие от Мандельштама, мог заявить, что никогда этой вере не изменял и от предков не отказывался[79].
Автор понимает, что в данном случае явно впадает в тот «грех», в который впадали многие еврейские исследователи наследия Спинозы и который так часто вызывал раздражение у их нееврейских коллег.
«Зависимость идей Спинозы от средневековой еврейской философской традиции, — писал Василий Соколов, — преувеличена в фундаментальной двухтомной монографии американского историка философии Гарри Вольфсона «Философия Спинозы». Этот труд, обнаруживающий огромную эрудицию его автора, выражает одну из весьма влиятельных тенденций буржуазно-идеалистической философской историографии — рассматривать мыслителей не с точки зрения того нового, что ими внесено в развитие философской мысли под влиянием глубоких исторических изменений, совершавшихся в данную эпоху, и социальных условий, преломившихся в их творчестве, а с точки зрения зависимости от той или иной идейной традиции»[80].
Но дело в том, что без обращения к еврейской религиозной философии понять Спинозу до конца попросту невозможно. Или, по меньшей мере, крайне трудно. Примерно так же, как, скажем, иностранцу трудно понять двух россиян, то и дело вставляющих в свой разговор цитаты из советских и российских фильмов. Каждая такая фраза вызывает у собеседников целый ряд ассоциаций, употребляется в определенном контексте, и без этих ассоциаций и контекста, просто в виде кальки может быть неправильно понята или не понята вообще.
У Спинозы цитаты из еврейских источников скрыто разбросаны по всем сочинениям, и потому время от времени стоит обращать внимание читателя на этот момент. Что отнюдь не отменяет влияния на Спинозу и великих античных философов.
Ну а теперь давайте перейдем к беглому знакомству теории познания Спинозы, которую он излагает в «Трактате об усовершенствовании разума».
* * *
Значительная часть «Трактата об усовершенствовании разума» посвящена путям человеческого познания и решению важнейшей диалектической проблемы о соотношении истины и заблуждения. В этом вопросе Спиноза, без сомнения, основывался на основополагающей мысли Декарта о том, что «…никогда не принимать за истинное ничего, что я не познал бы таковым с очевидностью… включать в свои суждения только то, что представляется моему уму столь ясно и столь отчетливо, что не дает мне никакого повода подвергать их сомнению»[81].
При этом Спиноза изначально выделяет четыре основных пути восприятия человеком каких-либо новых знаний и новой информации вообще:
«1. Есть восприятие, которое мы получаем понаслышке (ex auditu) или по какому-либо произвольному, как его называют, признаку (ex aliquo signo).
II. Есть восприятие, которое мы получаем от беспорядочного опыта (ab experientia vaga), т. е. от опыта, который не определяется разумом и лишь потому называется опытом, а не иначе, что наблюдение носит случайный характер, и у нас нет никакого другого эксперимента (experimentum), который бы этому противоречил, почему он и остается у нас как бы непоколебимым.
III. Есть восприятие, при котором мы заключаем о сущности вещи по другой вещи, но не адекватно: это бывает, когда мы по некоторому следствию находим причину или когда выводится заключение из какого-нибудь общего явления (ab aliquo universali), которому всегда сопутствует какое-нибудь свойство.
IV. Наконец, есть восприятие, при котором вещь воспринимается единственно через ее сущность или через познание ее ближайшей причины»[82].
Как видим, с точки зрения Спинозы, знания, воспринятые нами в готовом виде, просто с чьих-то слов и воспринятые на веру, представляют собой самую низшую ступень познания — они заведомо недостоверны, и ценность их невелика.