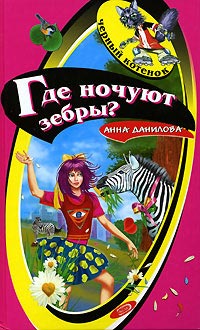И чему учит нас эта песня?
– Любить родину! – прокричала раскрасневшаяся Бурова, даже уже не вставая.
– Верно.
Раиса Григорьевна выдержала многозначительную паузу.
– Но, к сожалению, в нашем классе родину любят не все.
Класс ахнул, зашелестел.
– Сегодня утром мне стало известно, что ваша одноклассница Авербах, – Раиса Григорьевна кивнула головой в Асину сторону. – Ты встань, Авербах, давай-давай, встань, когда к тебе обращаются.
Асино лицо налилось краской под цвет октябрятского значка. Она, как обычно, сидела подогнув под себя ногу, чтобы быть чуть повыше, и теперь долго не могла подняться с места и чуть не завалилась на сидящую рядом Наташу. Но потом совладала с собой и все-таки встала.
– Так вот, Авербах, – отчеканила Раиса Григорьевна, – вместе со своей семьей покидает нашу с вами страну. Они нашли себе другую родину.
По классу прокатилась волна вздохов. Бурова обхватила лицо руками.
– Не может быть! – выкрикнула Наташа.
Раиса Григорьевна взглянула на нее торжествующе.
– А вот представь себе, Черных, что может.
Наташа замотала головой. Потом медленно повернулась к Асе.
Ася стояла, съежившись, красная до корней волос, изо всех сил стараясь не заплакать.
– Ась, это правда? – в ужасе прошептала Наташа.
Ася молча присела, скорее осыпалась на стул, втянула голову в плечи, по самый белый кружевной воротничок, и, закрыв лицо руками, разревелась.
И вот теперь в маленькой комнате лежали, разинув пасть, чемоданы, и тетя Тома с Асиным дедушкой, сбежавшие с застолья, ходили туда-сюда между ними, перекладывали, запихивали, взвешивали. Ася с Наташей, вызванные сюда, поскольку они все равно не ели суп, были посажены на чемоданы, чтобы помочь взрослым утрамбовать и закрыть их. Два чемодана было полностью отведено под книги, а в остальных чего только не лежало – одежда и обувь, махровые полотенца, елочные игрушки, завернутые, словно мумии, в несколько слоев газеты, пододеяльники, сковородки, набор инструментов «Радуга» дяди Кости. Только зачем они ему там?
– Вот она, вся моя жизнь, в восьми чемоданах, – вздыхала тетя Тома.
Наташа смотрела на всю эту кутерьму и не понимала, о чем тут вздыхать. В ее представлении у Аси и у ее мамы прекрасная жизнь, и зачем вообще было куда-то уезжать. Они жили в отдельной двухкомнатной квартире – со своим собственным туалетом, к которому не нужно было выстраиваться в очередь, как к мавзолею, а потом вставать на цыпочки, чтобы снять с гвоздя свой личный стульчак, и Асиной маме, пришедшей вечером после работы, и так уставшей, не нужно было еще драить места общественного пользования, потому что Геннадий Петрович, алкоголик, который жил в дальней комнате, имел обыкновение писать мимо унитаза и харкать на потрескавшийся кафельный пол.
И сколько красивых вещей было у Аси дома: комод с гжельской посудой, шкаф из красного дерева, натертый до блеска, так что в нем можно было увидеть свое отражение, ваза с оранжевыми зимними цветами-фонариками, да даже в этих потемневших ложках было что-то особенное. И конечно же, лоджия.
Наташины мысли прервала тетя Тома:
– Асенька, встань, будь другом. Придется что-то выложить.
Ася покорно встала с большого клетчатого чемодана и пересела к Наташе, а тетя Тома принялась в очередной раз перебирать вещи, пока наконец не вынула с самого дна проектор для диафильмов, обмотанный проводом. Сокровище невообразимое.
Мама давно обещала Наташе купить такой проектор с зарплаты, но всегда находилось что-то нужнее: сапоги, пальто, проездной, к концу месяца денег не оставалось совсем, и матери приходилось занимать то тут, то там по пятерке или трешке.
– Видишь, пап, я же говорила, что не влезает. – Тетя Тома покачала головой.
– Наташенька, может, ты возьмешь? – отозвался Асин дедушка с другого конца комнаты. Он стоял у выхода в лоджию и посматривал на Марка, который уже просыпался и начал вертеться и попискивать. А потом повернулся к дочери:
– Том, но ложки ты все равно положи.
Наташа медленно брела домой через пруд, чавкая сапогами по жидкой грязи и прижимая к груди проектор в картонной коробке, пытаясь прикрыть ее от моросящего дождя. Это было самое противное время года: уже по-зимнему холодно, но осень еще держалась, снег не выпал, и вокруг только и было что слякоть, серость и голь. А там, куда едет Ася, наверное, всегда тепло.
В куцем клетчатом осеннем пальтишке было зябко и промозгло, Наташа ежилась, но домой все равно не хотелось. Мама опять вернется с работы поздно, а от соседей было не спрятаться.
Мама с Наташей жили в комнате в заводской коммуналке, которую Наташина бабушка, медсестра, получила после войны, потому что работала на заводе в медсанчасти.
Одним их соседом был Геннадий Петрович, тихий и беззлобный алкаш. Его почти не было видно, дома он бывал редко, а когда приходил, с трудом доплетался до кровати и заваливался спать. Лишь изредка он напивался до белой горячки, становился буйным, и тогда приходилось вызывать милицию. В третьей комнате жила Надежда Яковлевна, пенсионерка в цветастом халате, сварливая, но, в общем, безобидная. Папы у Наташи не было.
По будням Надежда Яковлевна обитала на кухне – готовила для своего сына. Сын Андрей, здоровенный сорокалетний мужик с пивным животом, которого она трепетно называла Дюшей, жил на соседней улице с женой и двумя дочерьми. Выйдя на пенсию, деятельная Надежда Яковлевна решила посвятить себя сыну и внучкам и теперь в первой половине дня стояла в очередях, закупая продукты, потом приходила домой, отдыхала и, отлежавшись, заводила стряпню: варила суп, перемалывала фарш, жарила котлеты, крутила голубцы. А рано утром следующего дня Надежда Яковлевна раскладывала всю провизию по лоткам и бидонам, ставила все это в сумку-тележку и спешила к сыну. Обратно же она привозила грязные простыни и одежду, которую стирала по выходным.
Дюша с легкостью принимал мамину помощь, но в гости заходил редко и к себе звал неохотно, разве только чтобы принять очередную порцию котлет. Надежда Яковлевна же в сыне души не чаяла, а обиду свою переносила на невестку, которую терпеть не могла и иначе как «эта» или «она» о ней не говорила.
Никто точно не знал, чем так провинилась перед свекровью невестка, но нелюбовь свою Надежда Яковлевна выражала двумя способами. Во-первых, она постоянно жаловалась на невестку подружкам, занимая при этом общественный телефон. «Нет, Женечка, ты только представь, я их и обстирываю, и обвариваю, а она имела наглость… – возмущалась Надежда Яковлевна, накручивая спираль телефонного шнура себе на палец. – Как только Дюше досталась такая хабалка…» А во-вторых, стирая и гладя всю одежду сына и внучек, Надежда Яковлевна демонстративно обходила стороной невесткино белье. «Буду я еще