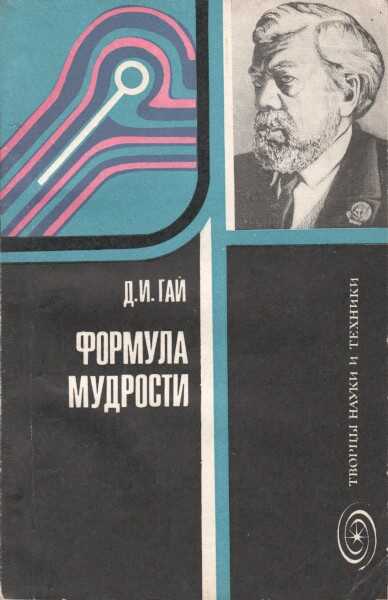господина заключена в рабе, а раб, ставший господином, остается «вытесненным» рабом. Только через опосредование рабским сознанием в движении признания господин соответствует себе и образуется самосознание; но в то же время оно образуется через опосредование вещью. Для раба вещь есть прежде всего сущность, которую он может отрицать, только «обрабатывая» ее; так он стопорит свое вожделение и откладывает исчезновение вещи.
Сохранять жизнь, удерживаться в ней, трудиться и отсрочивать наслаждение – таково рабское условие господства и всей истории, которую оно делает возможной. Независимость самосознания становится смешной в тот момент, когда она освобождается, закабаляя себя, когда она вступает в работу, то есть диалектику. Только смех не укладывается в диалектику. Он раздается лишь в миг отказа от смысла. Действие смеха раскрывает различие между господством и суверенностью. Смех, конституирующий суверенность, не является отрицающим, ибо суверенность также нуждается в жизни. Смешно именно закабаление очевидностью смысла. Абсолютная комичность, согласно Деррида, – это тоска перед лицом безвозмездной растраты, перед лицом абсолютного жертвования смыслом. Смех Иванушки имеет и еще ряд существенных черт: в нем проявляется его уверенность в способности что-то мочь, отсутствие боязни страданий и смерти. Смех выражает чувство независимости и свободы. Смех осуществляется прерывистыми звуками; он позволяет сделать перерыв коммуникации, позволяющий вместиться Другому.
Иванов и Топоров предполагают, что результативность героя достигается благодаря тому, что он воплощает первую (по Ж. Дюмезилю) магико-юридическую функцию, связанную не столько с делом, сколько со словом, со жреческими обязанностями. Иванушка единственный из братьев, кто говорит в сказке (двое других всегда молчат), при этом предсказывает будущее, толкует то, что непонятно другим; его предсказания и толкования не принимаются окружающими, потому что они неожиданны, парадоксальны и всегда направлены против «здравого смысла». Он загадывает и отгадывает загадки, то есть делает то, чем занимается во многих традициях жрец во время ритуала, приуроченного к основному годовому празднику. Иванушка является поэтом и музыкантом; в сказках подчеркивается его пение, его умение играть на чудесной дудочке или гуслях-самогудах, заставляющих плясать стадо. Благодаря поэтическому таланту он приобретает богатство.
Иван – носитель особой речи, в которой, помимо загадок, прибауток, шуток, отмечены фрагменты, где нарушаются или фонетические, или семантические принципы речи, или даже нечто, напоминающее заумь; ср. «бессмыслицы», «нелепицы», языковые парадоксы, основанные, в частности, на игре омонимами и синонимами, многозначности и многореферентности слова и т.п. (так, убийство змеи копьем Иванушка описывает как встречу со злом, которое он злом и ударил, «зло от зла умерло»). Обращает на себя внимание сознательное отношение к загадке: Иванушка не стал загадывать царевне-отгадчице третьей загадки, но, собрав всех, загадал, как царевна не умела отгадывать загадки, то есть загадал «загадку о загадке». Делёзовское понимание юмора позволяет понять языковые и смысловые аберрации Иванушки[100]. Согласно Делёзу, юмор совершается на уровне чистого события или «поверхности» в соразмерном действии друг на друга нонсенса и смысла. Он противопоставляет его разным видам иронии – сократической, классической и романтической. Ибо ирония осуществляет себя или в соразмерности бытия и индивидуальности, или в соразмерности Я и представления. В юморе происходит «снисхождение» до мира и его принятие. Это – жест «теплоты», тогда как ирония своим отрицающим действием интеллектуальной «высоты» являет жест «холода».
Первым, кто испытал действие юмора, его двойное устранение высоты и глубины ради «поверхности», полагает Делёз, был мудрец-стоик. Действуя на «поверхности», мудрец открывает объекты-события, коммуницирующие в пустоте, образующей их субстанцию. Событие здесь возможно как тождество формы и пустоты, где оно не объект обозначения, а скорее объект выражения. Оно – не настоящее, а всегда либо то, что уже в прошлом, либо то, что вот-вот произойдет. (Как говорил Хрисипп: «Чего ты не потерял, то ты имеешь. Рогов ты не потерял, стало быть ты рогат» (188))[101]. Отсутствие и отрицание уже не выражают ничего негативного, но высвобождают чистое выражаемое с его двумя неравными половинами. Одной половине всегда недостает другой, поскольку она перевешивает именно в силу собственной ущербности. Пронизывая отмененные значения и утраченные положения вещей, пустота становится местом смысла – события, гармонично уравновешенного своим нонсенсом, – местом, где место только и имеет место. Здесь начинает говорить уже не индивидуальное или личность, но само основание, сводящее на нет первые два.
И тогда Иванушка обнаруживает все признаки нетерпеливости и неумения жить в расчерченном по углам пространстве, он соскальзывает с заданного житейским умом маршрута, он сходит с ума, с умения жить как все. Способ его существования – достижение предела (трансгрессия). Ж. Батай показал, что трансгрессия является механизмом радикального преодоления социальных запретов, когда жизнь действительно в наибольшей своей интенсивности доходит до отрицания самой себя. Трансгрессия, по Мишелю Фуко,– это жест, который обращен на предел. Предел и трансгрессия обязаны друг другу плотностью своего бытия, ибо трансгрессия оплотняет бытие того, что отрицает. В трансгрессии нет ничего от разрыва или раз-лученности, но есть лишь то, что может обозначить бытие различения. В ней человек открывает себя с языком, который скорее говорит им, чем он говорит на нем. Происходит погружение опыта мысли в язык и открытие того, что в том движении, которое совершает язык, когда говорит то, что не может быть сказано,– именно там совершается опыт предела как он есть[102]. Опыт предела порождает абсурдистский способ говорения, который никак не постигается с точки зрения смысла.
Абсурд происходит от «suer», что значит «шепот» (но не от surdus – «глухой») – это дыхание перехода из одного состояния со-держания тел в другое. Мир повсеместно объят шуршанием и шептанием, шумом и дыханием. Мы слышим шум дождя, шелест листвы, шуршание шин по асфальту, мы слышим журчание реки или речи. Мир действительно наполнен шепотом, шуршанием и дыханием. Согласные нашего языка сцепливают это шуршание, являясь поэтому согласными, то есть тем, что связано с дыханием голоса человека. Если же этого единства не получается и оно не лепится, то выходит нелепица, бессмыслица, абсурд с точки зрения обыденного понимания и здравого смысла. Опыт предела – это переход из старых форм в новые, из замкнутых пространств в свободные, движение и проявление которого неясно «нормированному» сознанию, и потому для него оно абсурдно. Пространство города объединяет случайные и неслучайные объекты по смежности; это обстояние вещей дублируется языком и воспроизводится в способе говорения горожанина. Речь оседлого жителя оказывается метонимичной, поскольку метонимия представляет собой замену одного слова на смежное с ним другое слово. Роман Якобсон писал, что прозе и обыденной речи присуща метонимия, а поэзии – метафора. Тогда получается в пределе, что оседлый городской житель является прозаиком, а деревенский – поэтом.
Таким образом,