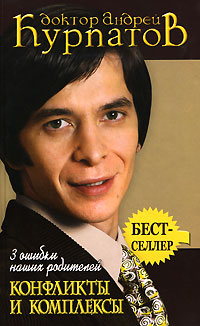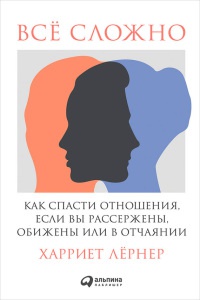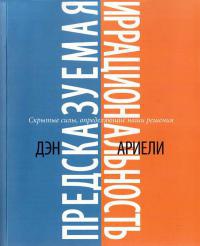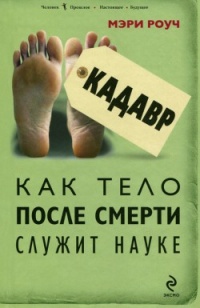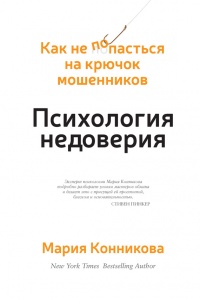Корни психологической устойчивости… лежат в ощущении того, что тебя понимает кто-то другой, любящий, гармоничный и сдержанный, что ты существуешь в его сердце и разуме.
Диана ФошаДетская клиника при Массачусетском центре психического здоровья была наполнена встревоженными и вселяющими беспокойство детьми. Это были необузданные создания, которым не сиделось на месте, которые били других детей, а иногда даже и персонал. Они могли подбегать ко взрослым, ухватившись за них, однако тут же в ужасе убегали. Некоторые бесконтрольно мастурбировали; другие срывались на предметах, домашних животных и самих себя. Они одновременно жаждали внимания и были злыми и несговорчивыми. Особенно непослушными порой были девочки. Независимо от того, протестовали они или цеплялись за взрослых, никто из них, казалось, был не в состоянии познавать мир или играть, как это делали другие дети их возраста. У некоторых из них практически отсутствовало чувство собственного «Я» – они даже не узнавали себя в зеркале.
В то время я мало что знал про детей, не считая того, чему меня научили мои собственные дошколята. Но мне повезло с моей коллегой Ниной Фиш-Мюррей, которая училась вместе с Жаном Пиаже[26] в Женеве, а также растила своих собственных пятерых детей. Пиаже основывал свои теории детского развития на методичных, прямых наблюдениях за самими детьми, начиная с собственных, и Нина принесла этот подход в только появившийся Центр травмы при МЦПЗ.
Нина была замужем за бывшим заведующим кафедрой психологии в Гарварде Генри Мюрреем – одним из родоначальников теории личности – и активно поддерживала всех младших работников кафедры, разделявших ее интересы. Она с большим интересом отнеслась к моим историям про ветеранов, так как они напомнили ей о проблемных детях, с которыми она работала в бостонских общеобразовательных школах. Привилегированная позиция и природное обаяние предоставили Нине доступ к Детской клинике, которой заведовал детский психиатр, проявлявший мало интереса к проблеме психологической травмы.
Помимо прочего, Генри Мюррей был знаменит изобретением повсеместно применяемого Тематического апперцептивного теста (ТАТ). ТАТ – это так называемый проективный тест, в котором используется набор карточек, чтобы понять, как внутренняя реальность людей моделирует их восприятие мира. В отличие от карточек теста Роршаха, которые мы показывали ветеранам, на карточках ТАТ изображены реалистичные, однако неоднозначные сцены: мужчина и женщина, которые отвели друг от друга свои хмурые взгляды; мальчик, смотрящий на сломанную скрипку. Испытуемых просили рассказать истории о происходящем на фотографиях, о том, что случилось перед этим и что произойдет после. В большинстве случаев их толкования сразу же давали понять, какие темы их больше всего заботят и беспокоят.
Вместе с Ниной мы решили создать набор карточек специально для детей, используя за основу фотографии, вырезанные нами из журналов в приемной клиники. В своем первом исследовании мы сравнили двенадцать детей в возрасте от шести до двенадцати лет из детской клиники с группой детей из ближайшей школы – они были подобраны таким образом, чтобы максимально соответствовать детям из первой группы по возрасту, этнической принадлежности и составу семьи (1). Наших пациентов отличало то, что в своих семьях они страдали от насилия. Среди них был мальчик с огромными синяками от постоянных избиений матерью; девочка, чей отец растлил ее в возрасте четырех лет, а также еще одна девочка, в пять лет ставшая свидетелем того, как ее мать (проститутку) изнасиловали, расчленили, сожгли и бросили в багажник машины. Сутенера ее матери также подозревали и в сексуальном насилии по отношению к девочке.