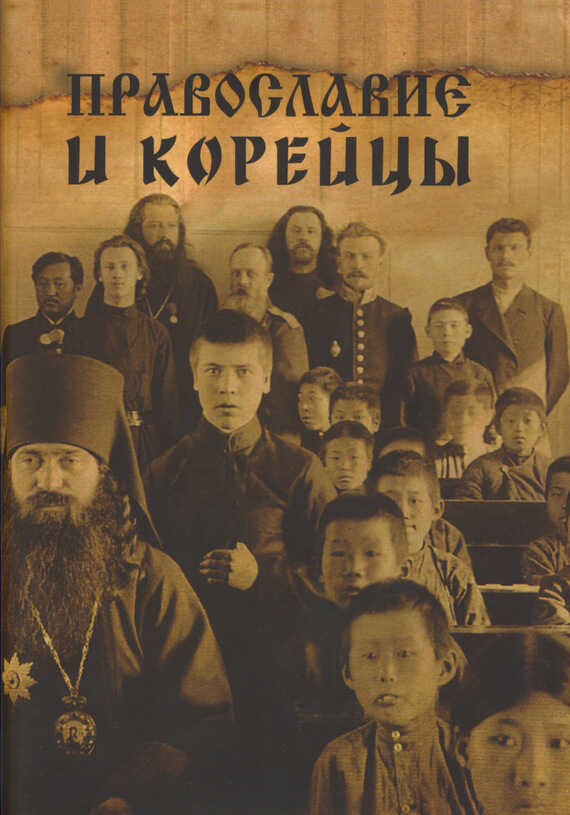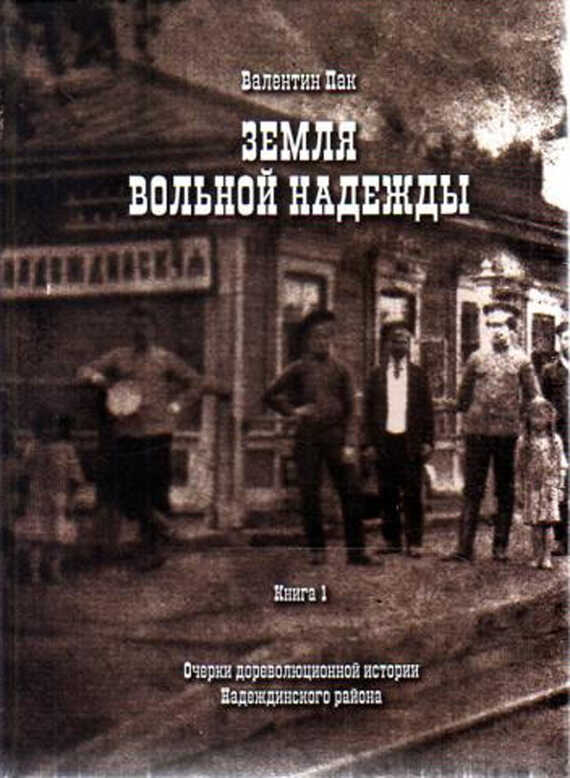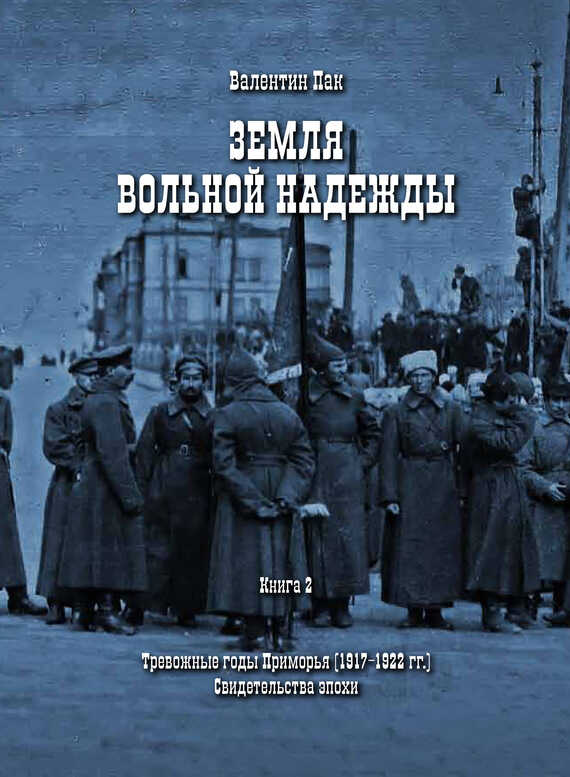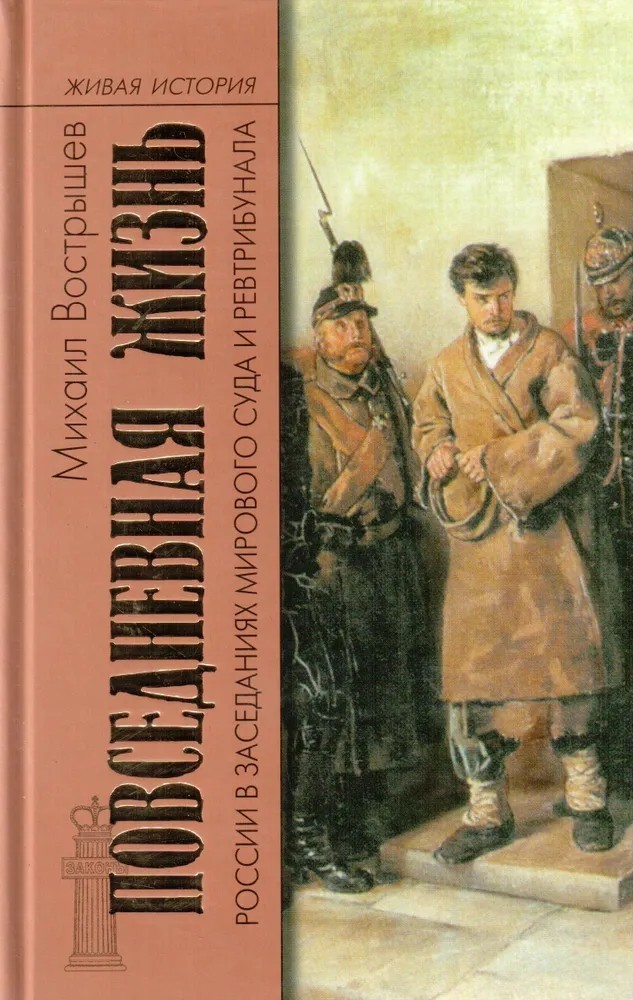1500 сажен, вылавливали со своих 20 больших лодок до 9 тысяч штук сельдей, а также добывали 500 пудов крабов и 1000 фунтов трепангов. В. Пьянков приводил конкретные и интересные сведения: «Один работник в течение дня может поймать на вилку со дна моря 300 шт. черных червей (употребляемых китайцами в пищу как лакомка), что равно по просушке 3 ф., которые стоят в продаже 3 руб. Крабов налавливает один работник в то же время 200 шт., что равно 2 сушеным пудам, стоящим в продаже 10 руб. Жители этой прекрасной и промышленной деревеньки все жизненные продукты покупают на стороне, имеют свой небольшой общественный магазин (склад – В.П.), в котором хранится чумизы (национального кушанья корейского) 102 пуда на случай голода. Местность Перешейки великолепнейшая, волнообразная и живописная. Перешеек имеет земли около 6 тыс. верст, почти со всех сторон окружен водой. На Перешейке строится часовня на пожертвованные в пользу Корейской миссии Его Императорским Высочеством Великим князем Алексеем Александровичем суммы» (там же).
Об этой часовне упоминал и М.П. Пуцилло в предисловии к своему словарю: «В минувшем 1873 году отдаленная Сибирь занесла в свою летопись выдающееся событие. После двухлетнего кругосветного плавания Его Императорское Высочество Государь Великий Князь Алексий Александрович… высадился в Владивостоке и затем проехал по всему Уссурийскому и Амурскому краю. На пути своем Его Высочество с редкою заботливостью и просвещенным вниманием относился ко всем вопросам местной жизни. При этом не могли остаться незамеченными корейцы, находящиеся в Южно-Уссурийском крае. Эти переселенцы, отличающиеся своим трудолюбием и хорошею жизнью, произвели особенно благоприятное впечатление на Великого Князя. Его Высочество с участием расспрашивал о их быте и нуждах и сделал денежное пожертвование в пользу корейской православной миссии, деятельность которой уже принесла самые утешительные плоды. В настоящее время в корейском селении Перешеек, близ залива Посьета, в живописной местности, строится часовня, которая будет освящена во имя Св. Алексия и навсегда сохранит память о посещении Великим Князем Южно-Уссурийского края.
Напомним и уже приводившуюся выше выдержку из отчета по управлению Восточной Сибирью за 1864 год генерал-губернатора М.С. Карсакова, который отмечал: «Эти корейцы в первый же год посеяли и собрали столько хлеба, что могли обойтись без всяких с нашей стороны пособий… Есть слух, что по примеру их намерены переселиться к нам еще до ста семейств корейцев, каковое переселение, в видах скорейшего в Приморской области развития хлебопашества и обеспечения ее через то собственным хлебом, весьма желательно, так как известно, что люди эти отличаются необыкновенным трудолюбием и склонностью к земледелию».
Источником достаточно ценных сведений является корреспонденция из газеты «Голос» (Санкт-Петербург) № 133 от 15 мая 1873 года, в которой, в частности, высказывается нетривиальный взгляд на корейцев как население, способное заменить в крае манз (выходцев из Китая) и даже полностью вытеснить их. Приводим эту статью полностью; к сожалению, подписи автора под ней нет; предположительно им может быть Ф.Ф. Буссе, будущий (с 1882-го по 1893 год) заведующий Владивостокским переселенческим управлением. В 1862–1868 годах он служил в Приамурье, участвовал в так называемой «манзовской войне», занимался переписью населения, а в 1869 году им была опубликована работа «Очерк условий земледелия в Амурском крае», в которой затрагивались и переселенческие проблемы. Данная статья хранится в фонде Ф.Ф. Буссе в Обществе изучения Амурского края (АОИАК, ф. 13), где им были собраны многочисленные вырезки из столичных газет и журналов, касающиеся Амурского края и Владивостока.
«Из Благовещенска-на-Амуре, 2-го марта.
Необходимость заселения южного побережья Японского моря сознавалась с первых же дней присоединения этого края к России. За недостатком крестьян пробовали селить в крае бессрочноотпускных матросов и солдат и даже окончивших свой срок работ ссыльных преступников; но как те, так и другие доказали несостоятельность этой системы поселений. Наконец, в 1864 году, в окрестностях гавани св. Ольги, в трех деревнях было поселено до 50 семей крестьян, хлебопашество которых тоже как-то не шло на лад. В настоящее время можно уже, не греша против истины, сказать, что и этот опыт не удался. Тогда же обратили внимание на корейцев, просивших позволение поселиться у нас в окрестностях Новгородского Поста, что и было им разрешено на следующих условиях: 1) корейцы должны селиться по побережью деревнями, не больше 50 семей в каждой; 2) в каждой деревне должен быть выборный старшина, утверждаемый в должности русским начальством и ответственный за все беспорядки, если б такие случились, и 3) с усилением переселения оно дозволяется не иначе, как по предварительной разработке хотя ½ десятины земли и по посеве на ней хлеба высланными вперед работниками, чтоб, по переходе семьи, она на первое время могла быть обеспечена.
К сожалению, условия эти не исполнялись; почему – не знаю, но слышал, будто бы в 1870 году, с переходом к нам единовременно до 5000 человек корейцев, их постигла страшная участь: большинство их погибло от недостатка хлеба, уцелевшие же были переселены в долину реки Суйерун (очевидно, опечатка; правильно Суйфун – В.П.) и в Амурскую область, а побережье по-прежнему осталось без населения во власти враждебных нам мандзов. Мандзами называются у нас китайцы, большею частью беглые преступники, частью же промышленники-торгаши, добровольно поселившиеся, временно, для ловли морской капусты и эксплуатирующие тазов, которые находятся в полнейшей от них зависимости.
Необходимость заселения побережья сделалась еще более настоятельною с переводом во Владивосток порта, устройство которого, как слышно, замедляется за недостатком рабочих рук. Кем же заселить край?
Селить наших крестьян едва ли будет полезно, и вот почему: все места побережья, удобные для заселения, подвержены наводнениям от протекающих рек, которые затопляют всю долину, за исключением немногих возвышенностей, отчего хлебопашество в широких размерах немыслимо; крестьянин же наш любит пахать вширь и не удовольствуется небольшим куском земли, который только при самых улучшенных способах обработки может кое-как прокормить его, но не дает избытков. Для корейца достаточно одной десятины, чтоб вполне обеспечить его до нового сбора хлеба. Главный посев корейца составляет цяо-мидза, т. е. просо низкого сорта, гаоляни, т. е. ячмень, наконец, греча, кукуруза, конопля, бобы, фасоль и другие.
Климатические условия края, знакомые корейцам, никак не подходят под привычки и обычаи наших крестьян, а крестьяне, в свою очередь, тоже (видимо, пропущено «не» – В.П.) считают нужным подлаживаться под них; от этого и выходит разладица, отзывающаяся весьма печально на хлебопашестве. Правда, и от корейцев на хлеб нечего рассчитывать, но они также сеют ячмень и гречу, а это дает возможность получать от них крупу, доставка которой в южные гавани из Благовещенска сопряжена с огромными тратами; следовательно, и как хлебопашцы корейцы