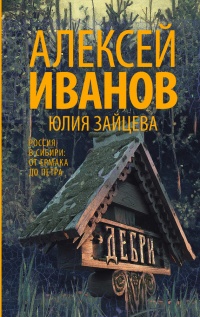за которым таился враг, он разрастался, заслонял собой весь мир, так что ни обойти его, ни объехать, и путь лишь один — через него, иначе не жить.
А жить Павел Тимофеевич всегда любил и совершенно не понимал тех, кто жаловался, что жизнь им прискучила, пропала зря из-за каких-то неудач, или еще хуже — добровольно уходил из жизни. В атаке он уже не слышал ни сердца, ни клокотания пулеметов, ни шипения и свиста снарядов.
Как давно все это было, а память все сохранила, и вот, чуть не двадцать лет спустя, видится, как вспухают черно-сизые клубки разрывов, помнится, как саднит в горле от сгоревшей взрывчатки, как забивает рот, ноздри встающая перед глазами дыбом земля… Из глубоких темных провалов он всякий раз возвращался, подолгу и первое, что всегда ощущал, был сладковатый, вызывающий тошноту запах хлороформа, сначала слабый, ненадежный, как тоненький лучик света сквозь дырочку, который ничего не стоит перекрыть. Запах тревожил, не давал погружаться в глубину, тащил, как на резинке, из забытья. Появлялись звуки, другие запахи, тревога пробуждения, словно он возвращался на свет заново. Это всегда было страшно, потому что не знал, какой возвращается: а вдруг без рук или без ног? Потом невесомое и чужое тело заполнялось болью, оживало…
Ощущения эти свежи, словно все это происходило вчера, хотя память упустила — он это знал — массу подробностей и цепко держала только основное.
Спал он в эту ночь плохо: то и дело просыпался от щемящей боли в груди, прислушивался, как неровно, с перебоями работает сердце, но уже не пугался.
В конце концов чему быть, того не миновать. Хорошо ли, плохо ли, а прожил шестьдесят три года — немалый срок. Жизнь была к нему неласкова, и если бы представилась возможность прожить ее снова, пройти все пройденное, он бы еще подумал — стоит ли? Правда, были молодость, сила, здоровье, бывали отрадные часы, но они столь же скупо разбросаны по суровому общему фону жизни, как женьшень в этих темных дебрях.
Если что и остается сделать, так только научиться спокойно умереть, когда косая все же подойдет вплотную. Жалеть нечего. Дети выросли и отошли, — он не винит их, так, видимо, и должно быть, — у них свои заботы и свои радости. Еще с заботами идут к отцу-матери, а радости найдут с кем разделить. Странно устроен человек: живет, живет, а приходит время, и все свои тревоги, все свое достояние, все плоды многолетнего труда — все приходится покидать, уходя. И как бы ни был предусмотрителен, не запасешься ничем. Богат ли, беден, видный ли, безвестный — конец пути всех равняет.
Так размышлял Павел Тимофеевич, стараясь настроить себя на возможный плохой исход, а где-то подспудно билась другая мысль: врешь, врешь, никого смерть не равняет, ничего не прощает, и если есть что доброе за душой, если жил не только ради своего сытого брюха, так и умирать легче. Врешь, вре-е-шь, старый! Или не насмотрелся на своем веку, как умирали люди, не знаешь? Если кто жил подло, так ему и напутствия другого не было, как «собаке — собачья смерть!». Знал он и другое: никогда человеку не примириться со смертью, с возможным концом.
Чувствуя, как холодеют порой руки и ноги, Павел Тимофеевич с тоской думал: «Таблетки бы сейчас от сердца одну-две. Или капли. Эх…»
Когда боль отпускала, усталость брала свое, и он засыпал, погружаясь в спасительный сон, как в воду.
Утром Павел Тимофеевич долго не вставал, лежал, думал и не хотел сознаться, что все это время ждал жужжания рульмотора, ждал голоса Федора Михайловича. Вчера, он это сознавал, упрашивать его было бесполезно, он ни за что не поехал бы с ними, а сегодня совсем другой разговор. Неужели не приедут? Ведь заночевали неподалеку, где-то возле залома.
Солнце поднялось над лесом, когда Павел Тимофеевич решился вылезть из палатки. «Значит, не приехали, — с горечью подумал он, и обида вновь шевельнулась в душе. — Конечно, зачем я им теперь?»
Голубое прозрачное небо с рыхлыми клубами тающего тумана сияло чистотой и было глубоко и покойно. Игольчато и всякий раз неожиданно посверкивали росные капли, торопко вспыхивали то огнисто-красными, то рубиновыми, то остро-синими брызгами огня на широких перистых листьях папоротника.
Павел Тимофеевич был полон ожидания болей и поэтому двигался не спеша, словно держал в руках чашу с молоком и боялся ее расплескать. Над старым кострищем были вбиты рогульки: он попробовал их ногой — крепки! — и принялся налаживать огонек. Потом взял котелок и спустился к реке. Чуть правее виднелся заиленный косой срез берега. Он вспомнил, что оттуда ночью доносился плеск, и решил взглянуть. Так и есть, берег испещрен крупными и мелкими следами выдры и выдрят. Следы были свежие, потому что накладывались на более ранние — вороньи трехпальчатые оттиски. Местами следы были смазаны, и он догадался, что выдрята шалили, возились. «Дети у всех дети, — отметил про себя Павел Тимофеевич, зачерпнул воды и вернулся к палатке. — К осени хороши будут».
Сыновья должны подъехать не раньше, как к вечеру, и торопиться ему было совершенно некуда. Он долго пил чай, приправленный для аромата лианой лимонника, которого здесь, на незатопляемом берегу, оказалось пропасть — целые заросли. Третью кружку осилить не смог. Под ногами среди всякой лесной ветоши сновали большие черные муравьи, подбиравшие крохи от его завтрака, и он, прежде чем выплеснуть кипяток, осмотрелся — не ошпарить бы какого трудягу.
Солнце начало припекать и понемногу сгонять росу, и вокруг палатки басовито загудели первые слепни. Надо чем-то заняться, иначе день покажется длинным, как вечность.
Поодаль от табора островком поднималась небольшая сопочка. Среди кудрявившегося на ней разнолесья высились темные кудлатые кедры. Крутобокая, она стояла среди мари пупырем и была настолько мала, что лесозаготовители не пожелали прокладывать к ней дорогу. Как говорится, овчинка выделки не стоит.
Павел Тимофеевич не раз проезжал мимо, а вот подниматься на нее как-то не приходилось: не было дела, ради которого стоило бы лезть на нее. Орехи? Так их там пустяки. Он постоял, соображая, идти или не идти. Схожу — все равно делать нечего.
Вскоре налегке, лишь с топором и ружьем, он шел к сопочке. Над долиной Канихезы тянул свежий веселый юго-западный ветерок, верный признак устойчивой хорошей погоды. Такой ветерок в сенокосную пору — отрада. Любил Павел Тимофеевич смотреть, как гоняет он зеленые луговые волны, как колышет, пригибает высокую, по грудь, траву, словно бы клонит ее под острое жало литовки. А ты только косой — вжик! вжик! — да замах пошире, со всего плеча, да ногу потверже,