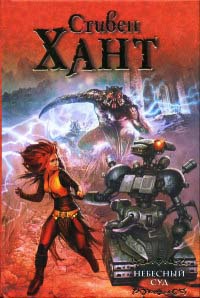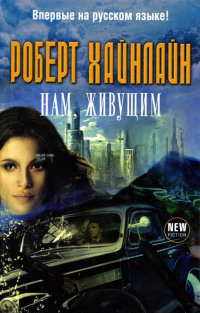Он отворил… За дверью стояла в ночной рубашке она. Медленно смигнула, прикрыв и опять обнаружив странное выражение темных, непроницаемых глаз. Локтем прижимала подушку, в руке будильник. Она глубоко вздохнула.
– Пожалуйста, впустите меня, – сказала она, и отчасти лемурьи черты ее белого личика умоляюще сморщились. – Мне так страшно, я просто не могу оставаться одна. Я чувствую, случится что-то ужасное. Можно, я здесь посплю? Пожалуйста!
Она на цыпочках пересекла комнату и с бесконечной осторожностью опустила на ночной столик круглолицые часы. Свет от лампы, просквозив ее папиросный покров, обнаружил персиковый силуэт тела34.
Круг, отчасти в духе Шарлотты Гейз, Лолитиной матери, которая пишет Гумберту любовное письмо, отвечает:
– Ты знаешь слишком мало или слишком уж много, – сказал он. – Если слишком мало, тогда беги, запрись, никогда не приближайся ко мне, ибо это будет животный взрыв, тебя может сильно поранить. Я предупреждаю тебя. Я старше тебя почти втрое, я огромный, печальный боров. И я тебя не люблю.
Сверху вниз она поглядела на корчи его рассудка. Прыснула.
– Значит, не любишь?
Mea puella, puella mea. Моя горячая, вульгарная, божественно нежная, маленькая puella35.
Переклички с “Лолитой” присутствуют и в сценах, когда Мариэтта и прочие, в том числе и восьмилетний сын Круга Давид, используют американский сленг36. Давид говорит “uh-uh” (“не-а”) и “Gee whizz” (“Вот здорово!”), и Круг представляет себе, как перебрался бы в страну, где “его малыш сможет расти в безопасности, в мире, в свободе (длинный, длинный пляж, испещренный телами, ласковая лапушка с ее атласным чичисбеем), – реклама чего-то американского, где-то виденная, как-то застрявшая в памяти”. В конце концов врываются полицейские, избивают Круга и отнимают Давида, причем разговаривают эти негодяи так, словно насмотрелись голливудских фильмов или решили разыграть по ролям сцену из хемингуэевских “Убийц”:
– Смак, – ответствовал Мак. – И ты не простынешь, – там, в машине, есть норковая шубка.
Из-за того, что дверь в детскую неожиданно приоткрылась… стал на мгновение слышен голос Давида: как ни странно, ребенок вместо того, чтобы хныкать и звать на помощь, пытался, видимо, урезонить невозможных своих гостей… Круг подвигал пальцами, – онемение проходило понемногу. Как можно спокойней. Как можно спокойней, он снова воззвал к Мариэтте.
– Кто-нибудь знает, чего ему от меня нужно? – спросила Мариэтта.
– Слушай, – сказал Мак Адаму, – либо ты делаешь, что тебе говорят, либо не делаешь. И если ты не делаешь, тогда тебе делают чертовски больно, понял? Встать!37
У Мака “тяжелая квадратная челюсть” и ладонь “размером с бифштекс на пятерых”38. Он – герой комиксов и голливудских фильмов: Блуто из “Моряка Попая” наверняка сказал бы, как Мак, “А-а, господи боже” и “Держи его прямо, детка”, когда его фонарик плясал в пальцах Мариэтты. Эти абзацы – краткие попурри из примитивных тем американской массовой культуры. Америка – родина гангстерства, но именно там, если бы Кругу удался задуманный побег, у его сына началась бы другая жизнь:
Он увидел Давида, ставшим старше на год или два, сидящим на чемодане в ярких наклейках – на пирсе, у здания таможни. Он увидел его катящим на велосипеде между сверкающих кустов форситий и тонких, голых стволов берез, по дорожке со знаком “Велосипедам запрещено”. Он увидел его на краю плавательного бассейна в черных и мокрых купальных трусах, лежащим на животе, резко выступала лопатка… увидел его в одной из тех баснословных угловых лавок, что выставляют пилюли на одну улицу и пикули на другую, взобравшимся на насест у стойки и тянущимся к сиропным насосам. Он увидел его подающим мяч особенным кистевым броском, неизвестным у него на родине. Он увидел его юношей, пересекающим техниколоровый кампус39.
А через год-другой уже Лолита будет пробовать газировку в очередной американской лавке во время поездок туда-сюда по стране с Гумбертом. Но и Лолите не суждено вырваться в другую, большую жизнь: она никогда не пересечет чисто подметенный кампус, не одолеет грозный рок, который в эти военные и послевоенные годы был для Набокова неотделим от беззащитности детства.
Многие события в “Лолите” (1955) происходят в 1947–1948 годах. Среди прочих достоинств романа, очаровавших сотни тысяч читателей, в особенности американских, – забавные бытовые подробности, отражавшие реальную жизнь. Литературный критик Элизабет Хардвик писала о романе, что его автор “совершенно в духе Марко Поло в Китае разглядывает набившие (нам) оскомину подробности американского быта. Мотели, рекламные объявления, жевательная резинка… для Набокова это все свежо и ново”40. В 1880-е годы таким же откровением для американского читателя стали сельские пейзажи в твеновских “Приключениях Гекльберри Финна”: на фоне типичных сонных южных городков на берегах Миссисипи разворачиваются такие события, как вражда Грэнджерфордов и Шепердсонов или мошенничества Герцога и Дофина. Роман “Приключения Гекльберри Финна”, как и “Лолита”, полон американского колорита.