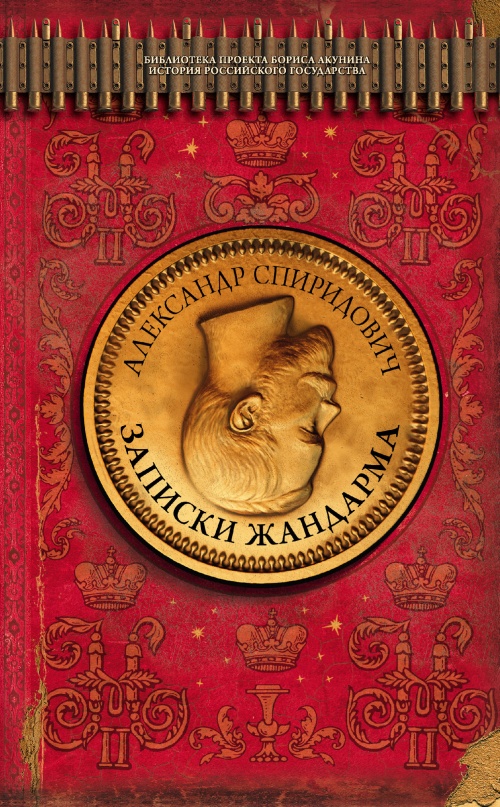Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190
одного и того же события (Второй мировой войны) – жесткое осуждение советского режима и столь же категоричная апология.
Другой немецкий ученый – Ганс Якобсен – представлял иную, чем Эрдманн, позицию. Якобсен также был в советском плену, но вспоминал свою жизнь в плену с идиллическими нотками, отмечая доброжелательное отношение местного населения к немецким военнопленным. Якобсен опубликовал ряд книг, используя многочисленные документы, в том числе и российские.
Из представителей более молодого поколения я бы отметил уже упомянутых братьев Моммзенов. Вольфганг был специалистом по проблемам историографии. Я часто встречался с ним на заседаниях Международной комиссии по историографии. Он работал в Дюссельдорфе и участвовал в различных конференциях. В последний раз я видел его на конференции в Тромсё (Норвегия). Незадолго до этого Вольфганг развелся с женой и на конференцию приехал с новой супругой. Многие участники конференции хорошо знали его прежнюю супругу, и новая спутница чувствовала себя неуютно.
Вольфганг во время конференции был невеселым. Чувствовалось, что он был, как говорят, не в своей тарелке. Помню, вернувшись в Москву, я сказал своим коллегам, что Вольфганг Моммзен был не похож на себя. И как же странно устроен наш мир: спустя некоторое время я услышал, что Вольфганг утонул в море в Германии во время отпуска. Вольфганг оставил о себе память еще в одном деле: он завершил многолетнюю работу по подготовке к изданию большого тома об истории Международной организации историков.
Несомненно, одной из самых колоритных фигур в новом поколении историков был Юрген Кока. Профессор Свободного университета в Берлине, видный специалист по проблемам теории и методологии истории, бывший президентом Международного комитета историков, Кока, может быть, больше других немецких (да и не только немецких) историков обращал внимание на гражданские позиции ученых разных стран.
Я вспоминаю, как после объявления в печати о создании в России Комиссии по противодействию фальсификациям истории, Юрген Кока связался со мной и попросил объяснить ему смысл и цели этой Комиссии, добавив, что международное сообщество историков обеспокоено всем этим. Кока жестко выступал против историков ГДР после объединения Германии.
Контакты с германскими историками дали мне основания считать, что в Германии децентрализация в науке была особенно заметна, несмотря на традиционную для Германии тенденцию к усилению государственности.
Во второй половине 1990-х годов в правительственных кругах Германии и России появилась мысль о создании постоянно действующей совместной комиссии историков для обсуждения актуальных проблем истории ХХ столетия. Выбор в качестве объекта для дискуссий именно ХХ столетия, конечно, не был случайным: две мировые войны, в которых столкновение России и Германии было главным и страшным и по потерям, и по последствиям.
Я прекрасно помню тот день, когда меня пригласил на ланч заведующий отделом культуры германского МИДа г-н Брентон. Я был в командировке в Бонне. К этому времени уже проходили переговоры о возможном создании совместной российско-германской Комиссии историков. Во время переговоров возникали многие спорные вопросы.
И вот г-н Брентон хотел прояснить некоторые принципиальные и конкретные вопросы. Во время ланча я понял, в чем состояла заинтересованность немецких коллег. Мой собеседник не скрывал того, что одна из задач будущей Комиссии должна состоять в содействии максимальной открытости российских архивов для историков из Германии. Мы долго обсуждали эту и другие темы и в итоге договорились о том, чтобы в Комиссию были бы включены (с обеих сторон) руководители архивов.
И этот принцип стал обязательным при всех модификациях состава Комиссии. Такое решение устроило наших немецких партнеров. Следует при этом иметь в виду, что в те годы перемены к большей открытости российских архивов еще только начинались.
Я понял также, что развитие сотрудничества с российскими историками вполне вписывалось в общую стратегию Германии в европейских и в мировых делах. С самого начала существования Комиссии над ней был установлен патронат со стороны президента России и канцлера Германии.
В Германии деятельность немецкой части Комиссии проходила в рамках министерства внутренних дел, а в нашей стране персональный состав Комиссии утверждался Президиумом Российской Академии наук, а ее деятельность находилась в поле зрения министерства иностранных дел.
Германскую часть Комиссии возглавил известный историк, директор Института современной истории в Мюнхене Хорст Мёллер. Этот институт имел филиал в Берлине, так что Мёллер, проживающий в пригороде Мюнхена, постоянно бывал и в Берлине.
Насколько я знаю, это была самая успешная действующая Международная комиссия историков – мы не пропустили ни одного года и проводили встречи каждый год.
Я вспоминаю первый год; в Германии нас принимал Хельмут Коль. (Это было еще в Бонне). Коль рассказал, что в молодые годы он был учителем истории в средней школе и с тех пор, будучи уже в большой политике, сохранял интерес к истории.
Что касается Комиссии, то ее деятельность представляла собой действительно уникальное явление. Мы обсудили за прошедшие годы много острых тем, в том числе и по истории Второй мировой войны. Оказалось, что у нас с немецкими коллегами нет больших принципиальных разногласий. Сопредседатель с германской стороны Хорст Мёллер подтвердил, что по основным вопросам истории ХХ века позиции немецких и российских членов Комиссии очень близки.
Достаточно перечислить темы, которые мы обсуждали в Комиссии, чтобы стало ясно, насколько высок был научный и общественный уровень работы Комиссии. Это события 1939–1940 годов и пакт Молотова – Риббентропа, Сталинградская битва, германский вопрос в послевоенные годы, отношения ГДР и Советского Союза.
Через Комиссию я смог познакомиться с большим числом немецких историков. Я могу назвать Кетрин Петрофф-Энке из университета в Констанце. Специалистка по России, она создала в своем небольшом университете активно действующий Центр русистики. С этим университетом связана интересная история. В Германии, как и в России, эксперты выделяют лучшие университеты, которые получают приоритетное финансирование от министерства образования.
Я был в Констанце, когда там ждали результатов конкурса. В условиях, когда у нас в России процветала «гигантомания», тенденция к созданию огромных университетов, в Германии конкурс выиграл в числе других небольшой университет в Констанце, причем одним из факторов, обеспечивающих успех Констанца, был гуманитарный аспект, реализация на практике концепции интеграции науки и образования.
В день, когда в Берлине проходило голосование, я уезжал из Констанца. Ректор университета сказал мне, чтобы я позвонил ему вечером. Если он скажет, что они пьют пиво, то значит они проиграли, а если сообщит, что пьют вино, то это означает выигрыш. Поздно вечером я позвонил в Констанц, и ректор радостно воскликнул: «Мы пьем вино!» Я прилетел в Москву и рассказал нашему министру образования и науки, что в Германии поддерживают и небольшие университеты, но на руководителей нашего образования это не особенно подействовало.
Активными членами Комиссии с германской
Ознакомительная версия. Доступно 38 страниц из 190